— Сколько ж надо было пройти, чтоб вот так до своей хаты дойти, — слышит Ваня густой голос матроса Константина. — Это ж целый роман можно написать, и бумаги не хватит!.. У меня сейчас, Сергей Родионыч, легкие вроде заклинило, не продыхну, заволокло их родным воздухом, я запросто могу взорваться, начиненный этим воздухом родины, или поднимусь в заоблачную высь как аэростат…
— Поэт ты, Константин… Пробуешь сочинять?
— А что! И хочется жить, и работать, и драться, чтоб крепло народов могучее братство, и зрели обильные силы земли, и птицы чтоб пели, и липы цвели!.. Ничего? Это из последнего моего стишка, в севастопольской, похвалюсь, газете печатали… А в отношении города, Сергей Родионыч, за совет благодарен, однако имею возражение. На данном этапе не мой курс!
— Напрасно…
— Не мой! Я измученный, Сергей Родионыч, соскученный, какой хочешь, но только негожий для нового внезапного уезда из дому… Я с бугра спускался, там, в стороне, несжатый клип овса… Я подумал: это меня он дожидается, непременно я его скошу. Завтра же!.. Я конские яблоки с дороги поднимал, на ладони нес — до того по лошадям истосковался, лошадей на кораблях во сне видел… А еще видел, в мечтах имел, как теплой ночкой с кем-нибудь в саду сидеть буду, Сергей Родионыч, дорогой мой, наставничек мой, и что-нибудь помягче мокрого корабельного железа под моими руками будет… Не улыбайся! Это сейчас, конечно, улыбаться можно, а мы и после девятого мая при смертельном деле состояли — фашистские мины тралили.
— Ты, Константин, все равно учителем должен стать.
— А я не забыл, что «лопата» и «собака» через «о» пишутся, а шестью шесть — тридцать шесть и что вода — аш два о! Я помимо других занятий, Сергей Родионыч, всегда, надейся, твой помощник. И новый сад мы с тобой заложим. Слово черноморского моряка!
— Если слово…
— Мать с августа тридцать девятого не видел… Годки на корабле, понимаешь, плакали, когда я им свое на эту тему читал. …Ты ли это, мать моя родная, старая, седая, ты ли, мать?.. Сгорбленная женщина, рыдая, бросилась матроса обнимать…
Отец — в выгоревшей сатиновой косоворотке, шнурком подпоясан, одна дужка очков у него сломалась, он ее тесемкой заменил, и лишь старые галифе на нем военные, больше ничего заметного нет, перед великолепным черно-сине-бело-позолоченным моряком отец совсем ничего из себя не представляет, поглядеть не на что… Ване даже обидно. Он отдает Константину его фасонистую бескозырку, идет в избу, обряжается в отцовский китель — руки утонули в рукавах; а полы кителя метут сор; снова выходит на улицу, — нет, не обратил внимания Константин, не удивляют его офицерские погоны отца, узкие, из серебра, со звездочкой на каждом… Конечно, когда сам столько всего имеешь да еще три ордена в придачу — чему завидовать! Чтоб отец пять, десять или пятнадцать медалей получил; как бы тряхнул сейчас Ваня кителем — медали б зазвенели, как тряхнул бы еще — не захочешь, а посмотришь!
— Я такой им тарарам в районо устроил, чтоб у нас, в Подсосенках, школу именно первого сентября открыть! — хвалился отец. — По столу заведующему кулаком стучал, ему чернильные брызги в лицо летели — как, Константин?
— Не верю.
— Стучал, честно! Зато завтра, как положено, завтра, как у людей, как по всей стране, Константин. Ты приходи!
— Обязательно… А Егорушкин, значит…
— Да. Неподдающийся… Такая вера в жизнь — увидишь.
— Пойду я, Сергей Родионыч. Сердце подталкивает: нужно идти. Домашние-то не знают, что я, считай, у порога…
— А завтра…
— Как штык! А сын у тебя, Сергей Родионыч, уже крепкий дубок…
— Товарищ мне… Ванька Жильцов!
— Я тебе, Ванюша, нож подарю.
— Когда?
— Завтра принесу. У меня в чемодане на дне хороший складень, трофейный, румынскому офицеру когда-то служил… Не забуду, Ванюша, принесу… А это не Володя, не он ли, Машин Володя, на полусогнутых мчится сюда. Сергей Родионыч?
— Он, — подтвердил отец, — случилось чего-то?!
— А постарел-то…
Дядя Володя подбежал, прихрамывая и запаленно дыша; напуганность была в нем, он с Константином поздоровался не так, как моменту подобает, — торопливо сунул руку, словно вчера виделись они, хмуровато, с мгновенно вспыхнувшей завистью скользнул своими моргучими глазами по его добротной флотской одежде, чемодану и туго набитому мешку. Кивнул на фляжку, и Константин налил ему — дядя Володя выпил, судорожно двигая кадыком, ладонью утерся, сказал:
— Бомбу нашел.
XIV
Незавершенную выгребную яму для школьной уборной, что Машин рыл у откоса Белой горы сразу же за кирпичным «шуваловским» складом, отец обнес предупредительными вешками, но прежде и он, и дядя Володя, и матрос Константин, прибежавший сюда со своими дорожными шмотками, и стороживший склад дед Гаврила — все они с опасливым интересом рассмотрели выглядывающий из глины ржавый корпус авиационной бомбы с ребристым выступом хвостового оперения. Ваню к яме не допустили: он возле них устроился, когда мужики потихоньку, с оглядкой отступили от нежданной смертоносной находки, перекурить присели под складской стеной, в тени, желая что-то понять и примириться с тем, что диковинная напасть — она действительно тут, от нее не уйдешь, деваться некуда, надо как-то действовать… Дед Гаврила, путаясь опорками в жесткой, заматеревшей к осени лебеде, своим резвым полубегом заспешил на поиски Ефрема Остроумова. Что председатель Ефрем, власть он — это одно, само собой; главное — сапер, а сапер должен разбираться в таких делах…
И тихо здесь — опустел ток, вчера закончили на нем работу, последнее зерно, что красным обозом не вывезли на элеватор и пока остается оно в колхозе, — это зерно засыпали в склад; дед Гаврила ток метлой расчистил, остаточки замел-подобрал, и только куры ходят по черной прибитой земле, в полове копаются, ворчливо переговариваясь, недовольные малой своей добычей… Ефрем пообещал во всеуслышание, что завтра, первого сентября, будет выдача аванса — по полкило зерна на трудодень, ежели, само собой, из района запрет не пришлют. И не должны бы запретить: задание по хлебу колхоз выполнил, на семена с избытком оставлено…
Дядя Володя, топыря локти, крутя потной, перемазанной шеей, объясняет и сам себе будто не верит:
— Лопата ширк-ширк… камень, определяю! Ка-ак хря-ясну! Звенит, однако… Ну, определяю, железо. А откель? Какое может быть железо, когда единственно глина? А ведь хря-яснул — с ро́змаху!
— Как она, родимая, тебя не хряснула, — замечает Константин. — У нее силенок больше твоих.
— Бо-ольше! — с коротким возбужденным смехом соглашается дядя Володя; он уже пережил основной момент, когда, не зная, тревожил бомбу лопатой, и сейчас стронутая с привычного места душа его зябковато сдавлена, в неспокойных больных глазах у него лихорадочные отсветы недавно пережитого ужаса. — …Опосля мелькнуло: клад откапываю! Казанок с деньгами иль там золотом. А чего? Карл в революцию мог закопать? Мог!.. Ну, думаю, вот тебе, Володька, и дерьмовая яма! Золотая!.. В этот секунд уж не хрястаю, не дуроломом — осторожным манером, чтоб не повредить…
— Откопал…
Константин хмыкает; он пучком травы счищает жирную грязь с хромовых ботинок, заученным жестом утягивает форменку под брюки, крутыми плечами поводит, пробуя, ладно ли на нем обмундирование сидит, — сильный, здоровый, влитый бугристым телом во флотское сукно; и дядя Володя невольно одергивает свою затасканную рубчиковую рубаху, комкает слова, тяжелая тень застарелых невысказанных обид на свою невезучую судьбу еще больше старит его землистое лицо, — заканчивает он, лишь бы, наверно, не молчать:
— Хрен с ним, сказать, с этим кладом… У меня и сундука, к примеру нет, куды золото ссыпать… Осталось, что ль в твоей фляге, Константин?
— На.
Отец сидит, в унылой задумчивости опустив голову.
У всех одно: скорей бы Ефрем!..
Невесомая паутина летает в чистом воздухе ясного дня, солнце съезжает вниз, однако высоко оно, не припекает по-летнему, а греет спокойно; от Белой горы исходит сияние, это ее чистый песок светится, он такой блескучий, как матросская бляха с выдавленным якорем на ремне у Константина. Ваня, щурясь, думает, что хорошо бы взорвать бомбу, — вот громыхнет-то! Синий столб с красным огнем до неба взлетит… И просто все: забросать яму полешками, чурками, бурьяном, хворостом, запалить, как костер, — бомба нагреется и жахнет. И будет у Белой горы еще одна яма с маслянистой коричневой водой поверху; в этой густой воде даже лягушки жить не станут — она и по весне не зацветет.
Мужики, конечно, догадались, откуда эта неразорвавшаяся бомба в их не затронутой боями лесной местности. Выходит, в ту метельную ночь, когда подсосенские бабы, старичье и детишки были разбужены оглушительным взрывом, оконные стекла полопались в избах и у Машиных рухнула задняя стенка избы, придавив овцу, — в ту военную ночь самолет уронил здесь не одну, а две бомбы. Одна сработала — вывернула и разметала тонны мерзлого грунта, оставив на память о себе громадную воронку; а другая бомба, вот эта, — она прошла под снегом, как скатилась, по высокому пологому склону Белой горы, зарылась в песок и глину, дожидалась, ржавея, кто ее отыщет… Отец над ней обозначил место для выгребной ямы, дядя Володя колошматил ее острым заступом, беспокоил, однако она не отозвалась, промолчала, пустая, возможно, внутри или бракованная, с какой-нибудь недоделкой… Вот поймает дед Гаврила Ефрема — наведет Ефрем экспертизу!
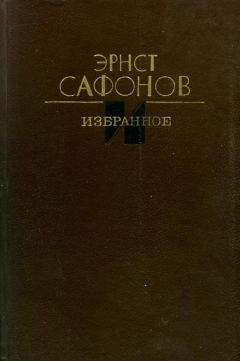


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

