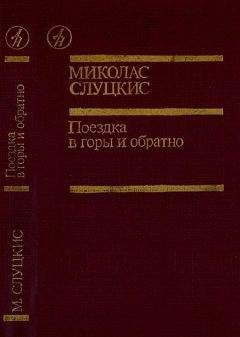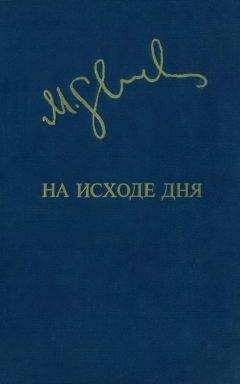Лионгина тоже хохочет, позволяет хватать себя за руки, дивясь своему поведению. Словно она не она, а кто-то другой, вольный распоряжаться по крайней мере самим собою. Опьяненной своим всемогуществом, ей почти кажется, что выбирает она не просто транспорт для поездки в отдаленное горное селение, а нечто куда более важное и роковое и для нее самой, и для Алоизаса.
С помощью водителя Алоизас грузит вещи в «Победу», Лионгина не различает, ни какая это «Победа», ни кто за рулем — молодой или старик. Только что наблюдавшая за всеми словно в бинокль, приближающий и проясняющий, она тонет в дымке волнения, не рассеивающейся от непрерывно повторяемой клятвы: больше никогда не буду так делать, никогда!.. А впрочем, что плохое, позорное она совершила? Этого она не знает, в груди продолжает клокотать проглоченная радость, но твердая рука Алоизаса вырывает портфель. Рук мужа она тоже не видит — чувствует лишь обиду от резкого прикосновения, словно крикнул он, что впредь не станет доверять ей в этом чужом краю.
Дорога извивается, как лента в ловких руках фокусника. Дребезжащая «Победа», управляемая молодым лихачом, то проваливается в туманную бездну, то взбирается на прокаленную солнцем и овеваемую ветром кручу, взлетает на такую пьянящую высоту, что в ненастный день облака тут, наверное, стелются под колесами. Но это еще не горы, чуть вздыбившаяся земля, репетиция перед спектаклем — так заливает парень, потряхивая влажными от пота волосами. За четвертную взялся он доставить их на место и показать все красоты этой скачущей, выписывающей чертовы петли дороги. Кое-где ее полотно как бы раздваивается — поблизости вьется колея, заваленная камнями и гравием, по словам водителя, это высохшая горная речка, которая осенью и весной пенится и ревет, как бешеная. («А тут, дорогие мои, лоб в лоб столкнулись два автобуса. Катастрофа века!», «Видите плиту отполированного мрамора, люди добрые? Это памятник, его поставили почтенные старики родители своему единственному сыну-гонщику!», «Держитесь, скоро перевал!») Водитель выкладывает им и название перевала, но такой скороговоркой, такими неповторимыми звуками своего языка, что под вой мотора и безжалостный грохот кузова они не улавливают ни единого слога. Впрочем, разве важно это теперь, когда гряды холмов — огромные голые или поросшие травой копны — перешвыривают «Победу» друг другу и, как лента в руке фокусника, вьются не только узенькая полоска асфальта, но и зеленые кудри леса, и голубые плащи далеких хребтов, и клинья кукурузы и подсолнуха, и устланные овечьими отарами склоны пастбищ, а все, что приближается к ним на миг, чтобы их глаза успокоились, колышется, трепещет, взлетает и проваливается куда-то. Непрерывно мотают их гигантские каменные качели, и можно подумать — если бы была возможность думать! — что с первого дня творения земля эта еще не успокоилась. Рядом Алоизас, грубоватая шерсть его пиджака, тихое сопение, но ты вдруг захлебываешься воздухом, и он словно ходуном ходит внутри, вытряхивая из тебя точное знание того, как следует сидеть в машине, как вести себя, смотреть по сторонам… Слишком много впечатлений и у Алоизаса — не поминает о ее поведении на площади, а ведь не забудет. Но и об этом думать нет времени!
Пляска гор и долин не прекращается, «Победа» то скользит вниз — словно упущенная веревка, то по серпантину дороги карабкается вверх, и колеса несут машину все выше и выше, туда, где серые камни и сухие стебли невзрачной травы. Втиснувшись в провал сиденья, высунув одну руку в открытое оконце, а другой вцепившись в подлокотник так, что побелели ногти, Лионгина чуть не вопит самой ей противным голосом («Пусть он остановится!», «Вели ему остановиться, Алоизас!»). Но упрямый чертенок, может, тот самый, что совал при перепечатке в его работу дурацкие ошибки, а может, другой, который вытолкнул ее уговаривать шоферов на площади, липкими лапами затыкает ей рот. И она слышит свое заговорщицкое, вторящее болтовне водителя хихиканье, хотя не видит его лица; и так хорошо, когда мурашки бегают по спине, по ее мокрой от пота ложбинке, ожидать еще более длинного прыжка, прыжка через невидимую, однако отчетливо, как стекло в окне, ощущаемую пропасть. Не так ли с замиранием сердца и надежды слушала она страшный рассказ Ингер о ее любви? Нет, тогда она просто ужасалась. А теперь что… больше не боится?
— Все! Проскочили перевал! — вопит водитель, обернув к пассажирам узкое лицо. Должен же кто-то драть горло от радости — ни тумана, ни гололеда, превращающего перевал в неприступную крепость. — Теперь как на крыльях полетим. Идет?
— Может, не надо, парень? — Алоизас подозрительно косится: на руле прыгают руки с набухшими венами, и голос его теряет уверенность. — Мне кажется… Что касается меня лично…
— Что, слишком медленно? Нажать? — по-своему истолковывает его пожелание водитель, сверкая острыми зубками, лихие усики мокры, крепкая шея тоже в поту. — Техника не позволяет, милые… Приезжайте на следующий год — с ветерком на новенькой «Волге» прокачу!
— Ладно, и так хорошо, — Алоизас чувствует ненадежность этого полета, легко представляет себе, как они с ходу выскочат из колеи, зависнут в состоянии невесомости и камнем ринутся вниз, где разобьются в куски. Нет, рассыплются искрами. Как елочная хлопушка. От нескончаемых каменных волн неуютно и муторно, он с удовольствием затянулся бы табаком, но трубка не слушает утративших привычные навыки пальцев, мундштук стучит по зубам. Прийти в себя, тем более удержать все время куда-то ускользающую Лионгину не удается, приходится ожидать момента, когда земля снова станет землей, а не гигантскими качелями. — Слышь, дружок, — теребит он водителя за плечо, — а тормоза у тебя в порядке?
— Тормоза? Как скрипки в оркестре — мои тормоза! Пожалуйста, если не верите…
Дорога взвихривается, вздымается столб пыли. Противно визжа и распространяя запах горелой резины, «Победа», как резко осаженная кобыла, встает на дыбы. Глухо грохочет железо, мотор захлебывается и глохнет, но капот еще дымится, словно морда разъяренного быка. Чуть не врезались в низенький, бегущий вдоль дороги барьерчик, а точнее — в голубое оконце — круглую, как иллюминатор, промоину, сквозь которую выглядывает небо. Ткнув ногой, можно без труда расширить эту дыру — не потребовалось бы и железных бамперов «Победы».
Водитель, припав грудью к рулю, стиснул ладонями виски. Лионгина вылезает наружу первая. В лицо кулаком ударяет упругий горный воздух, но в голове и теле пустота — и лишь в ушах продолжает звучать визг скользящих по камням шин. Беленный известью хлипкий барьерчик, за ним — небо, которое можно пнуть ногой… Собрав силы, Лионгина отрывает глаза от своей красной босоножки, запорошенной белесой пылью. Вниз беззвучно падает каменная стена… Извиваются страшные трещины, на выпирающих камнях — пятна лишайника… В метре ниже уровня дороги торчит колючий куст. Шиповник?.. Как только сумел он уцепиться за ничтожный слой земли, скопившейся в каменной складке, как пустил корни? Цветы уже осыпались — пестрит лишь несколько последних. Зато в листве сверкают… бриллианты. Что это, господи? Осколки, разве не ясно, что осколки? Стеклянные брызги сверкают в гуще колючек. Осколки искрятся и бросают алмазные лучи — хочется протянуть руки. Нет, не достать! Разве что крепко упершись ногами в края промоины, изогнуться всем телом.
От одной мысли, что голова ее свисает над пропастью, Лионгина покачнулась. Вместе с ней закачался в небе солнечный диск, источающий не жар, а ледяной холод. Лионгина откидывается и поднимает глаза, чтобы солнце вновь повисло на своем месте. И снова грело затекшее и обмякшее тело.
Алоизас, уперев ладони в спину Лионгины, подталкивает ее назад, к машине, словно она дрожащая, мягкая медуза.
Не успела осесть пыль, как снова визжат тормоза. Теперь уже не «Победы» — зеленой, цвета весенней травы, «Волги». Выскакивают двое мужчин в белых рубашках и пестрых галстуках. Один из догнавших постарше, другой помоложе, один — водитель, другой — пассажир; скорее всего, они приятели, потому что, не стесняясь, перебивая друг друга, горячо предлагают помощь.
— Ничего не случилось. Ровным счетом ничего, — сухо благодарит Алоизас. Ему неловко за им же самим спровоцированное опасное торможение, неприятно внимание посторонних.
Лионгина молчит, провалившись в сиденье, словно у нее размягчился позвоночник. Молчит и водитель, которого невозможно оторвать от руля.
— Нам ничего не нужно. Абсолютно ничего! — хладнокровно отделывается от непрошеных помощников Алоизас.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — почти соглашается младший. — Но вас можно поздравить!
— Действительно, поздравляю, счастливо отделались! Рулевые тяги не полетели? — не отстает старший, будто сам чудом избежал пропасти. Его широкое лицо подергивается, морщинки колышутся, как складки на развеваемой ветром ткани. — Резина-то цела? Что значит не синхронные тормоза! С какими тормозами ездишь, джигит, а? — протянув руку в открытое окно, трясет он парня.