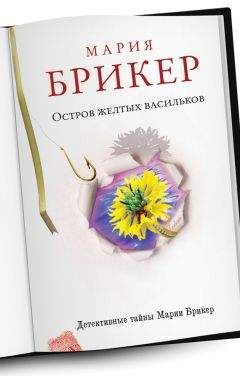Соломон Борисович, заведующий производством, человек старый, но юркий, замахал на коммунара руками и испуганно замахал глазами. Как это можно уволить такого квалифицированного рабочего? Соломон Борисович даже рассердился.
— Как это вы говорите — уволить? Это старый рабочий, а вы еще молодой человек.
Коммунары загудели кругом. Дело происходило в саду, на площадке оркестра.
— Так что же, что молодые?
Кто-то поднялся:
— Молодые мы или нет, а если с Островским еще такое повторится, так его нужно уволить, пусть он хоть тридцать восемь лет работал.
Слово берет Редько и медлительно, немного заикаясь, начинает говорить:
— В цехе три начальника, а четвертый — сам Соломон Борисович.
Распоряжения отдаются часто через голову механика, квалифицированные рабочие «гонят», портят материал и покрывают брак, трансмиссии установлены наскоро, в цехе много суетни и мало толку…
Собрание не принимает никакого постановления и расходится.
Обиженный Островский уходит в одну сторону, обиженный механик — в другую, обиженный Соломон Борисович — в третью.
Коммунары не обижаются: они знают свою силу и уверены, что будет так, как они захотят.
Через день совет командиров назначает своего браковщика, тот начинает отшвыривать неправильно обточенные, грубо обработанные детали, и уже никому не приходит в голову протестовать против его браковки.
В том же совете командиров недвусмысленно требуют от Соломона Борисовича, чтобы в ближайшие дни был поставлен на фундамент шлифовальный станок. Соломон Борисович обещает поставить его в течение трех дней. Вася, секретарь совета, записывает в протокол это обещание и говорит с улыбкой:
— Записано: через три дня.
А после совета в частной беседе грозят Соломону Борисовичу:
— Смотрите, Соломон Борисович, ваша квартира недалеко — устроим демонстрацию против ваших окон, оркестр у нас свой. Когда-нибудь сядете пить чай, а тут — что такое? Смотрите в окно, а кругом красные флаги и плакаты: «Долой расхлябанность! Да здравствует дисциплина!»
Соломон Борисович отшучивается:
— Ну, вы окна бить не будете? Окна ж ваши, коммунарские.
Васька закатывается за своим столом.
— Окна, конечно, нельзя, так мы стаканы побьем. Милиции близко нету, не забывайте.
Смеется Соломон Борисович.
— Честное слово, хорошие вы ребята, только напрасно волнуетесь, все будет хорошо.
— Посмотрим! — говорят коммунары.
И они смотрят. И под их взглядами ежится всякий шкурник, рвач, растяпа. Соломону Борисовичу этот въедливый хозяйский взгляд помогает вскрыть все недостатки производства.
Все уверенны, что первый и второй отряды наведут дисциплину в токарном цехе.
Недавно на общем собрании рыжий Боярчук, сдавая рапорт на командира первого отряда, сообщил:
— В цехе полчаса не было резцов.
Соломон Борисович при обсуждении рапорта заявил категорически:
— Это неправда. Резцы были. Просто поленились пойти к кладовщику получить.
Коммунары хорошо знают, что где угодно может быть неправда, только не в рапорте. Рапорт пишется пером, и ни один командир не напишет в рапорте неправды.
Коммунары засмеялись.
— А если правда, тогда что?
— Что хотите, — сказал Соломон Борисович.
Встал командир первого, Фомичев:
— Мне за неправильный рапорт было бы не меньше трех нарядов.
— Пускай мне будет три наряда, — выпалил сердито Соломон Борисович.
— Хорошо, — сказал Фомичев.
Тут же выбрали комиссию. На другой день она доложила:
— Резцов действительно не было.
На собрании поднялся смех:
— А где же Соломон Борисович?
Оглянулись, а Соломона Борисовича и след простыл.
На другой день пришел ко мне Соломон Борисович и сказал:
— Ну что ж, я им сделаю душ в саду. Это стоит трех нарядов.
Васька, секретарь совета командиров, подумал и сказал:
— Пожалуй, что и стоит.
В никелировочном цехе работают два отряда: одиннадцатый — до обеда и двенадцатый — после обеда. В каждом по десять человек. Командирами здесь старые коммунары — Крымский и Жмудский, но большинство членов этих отрядов — новички. Однако эти новички уже справляются со своим положением хозяев на производстве. Недавно они даже одержали крупную победу над Соломоном Борисовичем.
Никелировочная мастерская разделяется на два отделения: в одном стоят шлифовальные, полировочные станки и так называемые щетки. На всех этих приспособлениях медные части, вышедшие из токарного цеха, приготовляются к никелировке: шлифуются и полируются. В другом отделении они опускаются в никелировочные ванны, но и перед ваннами проходят очень сложную процедуру промывок и очисток и бензином, и известью, и еще каким-то составом. Одним словом, в никелировочном цехе очень много отдельных процессов, и общий успех работы зависит от слаженности и согласованности.
Почему-то Соломон Борисович держал здесь двух мастеров: один заведовал шлифовальным отделением, второй — собственно никелировочным. Мастера эти отчаянно конкурировали друг с другом, подставляли один другому ножку, сплетничали и втягивали в эту глупую борьбу и рабочих, которых там человека четыре, и ребят.
Вообще никелировочный цех у нас один из самых неудачных: всегда в этом цехе что-нибудь ломается, останавливается. И Соломон Борисович, и мастер, и члены производственного совещания, и остальные коммунары на каждое заседание совета командиров приходят с взаимными претензиями. Начинается разговор в очень корректных выражениях, но кончается бурно. Раскраснеются физиономии, размахаются руки, голоса повысятся на пол-октавы. Голос секретаря совета командиров, называемого чаще ССК, переходит в фальцет, но тщетны все попытки сколько-нибудь охладить Соломона Борисовича. Соломон Борисович горячится ужасно.
— Что вы мне рассказываете? Кому вы рассказываете? Я работаю на производстве девятнадцать лет, а мне такой, понимаете, малыш говорит, что здесь число оборотов неправильное. Так разве я могу так работать? Я требую, чтобы со стороны коммунаров было ко мне другое отношение.
Тут Соломон Борисович сам доходит до такого числа оборотов, что уже не замечает, как начинает рассказывать своему соседу, политруководителю коммуны товарищу Варварову, о каких-то еще более возмутительных проявлениях неуважения к его производственному опыту. Варваров, молодой и кучерявый, что-то у него спрашивает. Соломон Борисович ерзает на стуле и роется в глубочайших карманах своего пиджака-халата, очевидно, разыскивая документальное доказательство.
ССК пищит:
— Соломон Борисович, а Соломон Борисович! Соломон Борисович, говорите всему совету. Чего вы шепчетесь?..
Соломон Борисович оглядывается на сердитого Ваську и расцветает в улыбке:
— Ну вот, видите?
Но, несмотря на все эти столкновения, Соломон Борисович любит ребят и часто приходит в неожиданный восторг от напористости коллектива.
Этот восторг он выражает на каждом шагу, но и на каждом шагу он с этим коллективом ссорится и устраивает конфликты. Коммунары платят ему таким же сложным букетом. С одной стороны, они видят его энергию и знания, но в то же время они не склонны подчиняться его авторитету и прекрасно разбираются в отрицательных свойствах его как организатора: бывает, что Соломон Борисович погонится за дешевкой, любит сделать что-нибудь, как-нибудь, только бы держалось, из-за копейки часто не только поспорит, а и разволнуется.
Коммунары умеют собрать самые подробные сведения о какой-нибудь детали у мастеров и неожиданно ошеломляют своей эрудицией Соломона Борисовича.
— Вот в Киеве на производствах везде платят по полкопейки за такую-то деталь; а я вам даю три четверти.
— Э, и хитрый же вы, Соломон Борисович! Так в Киеве платят же только за формовку, а есть еще и чернорабочие…
Соломон Борисович наливается кровью, размахивает руками и сердится:
— Откуда вы все это знаете? Я девятнадцать лет работаю на производстве, а он будет мне толковать о чернорабочем!
Когда был поднят вопрос о ненужности двух мастеров в никелировочном, Соломон Борисович сначала попробовал обидеться, потом стал взывать к милосердию и, наконец, сообразил, что предложение производственной комиссии оставить одного мастера на два отделения — предложение дельное. Принужден он был согласиться и с другим предложением производкомиссии: платить коммунарам за работу на ванне не одну с четвертью копейки от стана, а две копейки. Но на совете командиров Соломон Борисович вдруг стал на дыбы:
— Постойте, как же так? — Соломон Борисович даже вспотел. — Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит и ваша прибавка, — он повернулся к членам производственной комиссии, — может быть только с пятнадцатого.