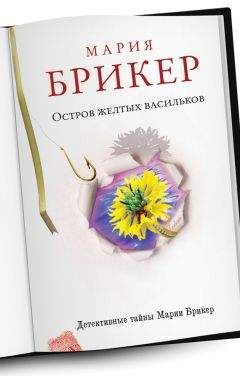— Постойте, как же так? — Соломон Борисович даже вспотел. — Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит и ваша прибавка, — он повернулся к членам производственной комиссии, — может быть только с пятнадцатого.
Председатель производственной комиссии — командир двенадцатого Жмудский, поддерживаемый внушительным урчанием половины всего своего отряда, расположившегося прямо на полу, вероятно, в знак того, что они не имеют права голоса на совете командиров, — вытянул удивленную черномазую физиономию.
— Так причем же здесь мастер?
Маленький востроносый ССК Васька даже лег на стол, устремившись всем телом к расстроенному Соломону Борисовичу.
— Так поймите же, Соломон Борисович! Мастер-то относится к рационализации, а то совсем другое дело — расценки.
— Что вы мне, молодой человек, рассказываете? Кому вы это говорите?..
Полный, круглый, красный и клокочущий, завернутый в широчайший и длиннейший, покроя эпохи последних Романовых пиджак, карманы которого всегда звенят ключами, метрами, отвертками, шайбами и т. п., Соломон Борисович вскакивает со стула и вдруг набрасывается на меня, хотя я решительно ни в чем не виноват. Я мирно подсчитываю в это время, сколько метров сатина нужно купить на парадные трусики для коммунаров, принимая во внимание, что девчонкам трусиков не нужно, что в кладовой имеется сто одиннадцать метров и что…
— Вы, Антон Семенович, распустили ваших ребят. Они теперь уже думают, что это не я инженер, а они инженеры. Они будут читать мне лекции о рационализации… Я пойду в Правление, я решительно протестую!
Соломон Борисович брызжет слюной и отчаянно машет руками.
— Да ведь они же правы, Соломон Борисович.
— Как правы? Как правы? Как правы? Я должен где-то брать деньги на никелировку? И мастеру платить, и три четверти копейки…
— Да при чем же здесь мастер? — спрашивает Жмурский.
Как причем? Как причем? Вы слышите, что они спрашивают? Причем мастер? А мастеру платить нужно за две недели? По-вашему, так можно выполнять промфинплан?
— А какое нам дело, что вы держали мастера, который не нужен? Вы и еще бы держали, если бы мы не придумали, а теперь вы хотите, чтоб за наш счет…
Соломон Борисович начинает чувствовать, что Жмудский не так уж далек от истины, и перестает вертеть руками, растеряно всматривается в лицо Жмудского:
— Как вы говорите?
Жмудский смущен неожиданным замешательством противника. Он даже подымается со своего стула и заикается:
— Мастер же, это был убыток. Мы вам посоветовали…
— Нам премию нужно выдать! — перебивает Жмудского кто-то из командиров сзади Соломона Борисовича.
Соломон Борисович резким движением поворачивается на сто восемьдесят градусов и… улыбается. На него смотрят плутоватые глаза Скребнева, которому он очень симпатизирует. Соломон Борисович находит выход:
— Мастер, говорите, убыток? У Соломона Борисовича никогда не бывает убытка.
— Как это не бывает? А ведь был лишний мастер, — раздается со всех сторон.
— Эх, нет, товарищи!
Соломон Борисович вытаскивает из кармана платок, который кажется бесконечным, потому что до конца никогда не вытягивается, затем снова усаживается на своем стуле и забывает, что имел намерения вытереть трудовой пот на инженерском челе. Платок исчезает в кармане, и Соломон Борисович уже сияет и по-отечески, по-стариковски ласково и любовно говорит притихшим коммунарам:
— Двух мастеров нужно было иметь, пока вы учились работать. Вот теперь вы выучились, и двух мастеров не нужно, нужен только один. Если бы вы и не предложили, я его и сам бы снял. Пока вы учились, конечно, нужно было переплачивать на мастерах, и расценки были ниже. Вы работали не самостоятельно, а с мастером.
— Э-э-э, Соломон Борисович!.. Нет… Это что ж…
— Ишь, хитрый какой!
— Смотрите! Учились… А когда мы научились? Сегодня? Сегодня? Да?
На Соломона Борисовича один за другим сыплются вопросы, но чувствуется все же, что он нанес гениальный удар.
Когда шум немного стихает, серебряный дискант Скребнева вдруг звенит, как колокольчик председателя?
— Это вы сейчас придумали? Правда ж?
Весь совет заливается хохотом. Соломон Борисович снова наливается кровью и с достоинством подымается с места:
— Нет, товарищи, я так не могу работать…
Снова Соломон Борисович начинает кричать:
— Конечно! Довольно! Кто я здесь такой? Инженер? Или я буду у этих мальчишек учиться управлять производством?..
Коммунары в общем не обижаются даже за «мальчишек». Они улыбаются в уверенном ожидании моего ответа. И я улыбаюсь.
— Да ведь как же не согласиться? Нельзя предъявлять коммунарам такую логику, нельзя связывать эти два пункта.
Соломон Борисович опять выступает с достоинством, складывает бумаги в портфель и говорит:
— Хорошо. Значит, дело это переносится в правление.
— В правление? — ССК таращит глаза.
— Да, в правление, — обиженно угрожает Соломон Борисович.
— Посмотрим, что правление скажет, это интересно. Вот смотри ты, в правление! — удивляется ССК.
Соломон Борисович вылетает из кабинета, и еще виден в дверях его пиджак, а Васька уже вещает:
— Следующий вопрос — заявление Звягина о приеме в коммуну.
Из книги о культурной революции
Пока шумят мастерские, в главном доме коммуны тихо. Только во время перемен из класса высыпают ребята и спешат кто в спальню, кто в кабинет, кто в кружок. Многие просто прогуливаются у парадного входа по выложенному песчаником тротуару.
Школьная смена своим костюмом резко отличается от рабочей. В то время, когда слесари, токари и в особенности кузнецы и формовщики с измазанными физиономиями щеголяют блестящими от масла пыльными спецовками, старыми картузами и взлохмаченными волосами, на ребятах из школьной смены хорошо пригнанные юнгштурмовки, портупеи, новенькие гамаши и начищенные ботинки, головы приведены в идеальный порядок, и даже такая всесоюзная растрепа, как Тетерятченко, по крайней мере до третьего урока ходит причесанным.
Кончив работу, первая рабочая смена должна переодеться и вымыться к обеду. Вторая надевает рабочие костюмы только после обеда. Вечером, после пяти часов, все должны быть в чистых костюмах.
Добиться этого удалось далеко не сразу. Многие коммунары считали, что внешность истинного пролетария должна быть возможно более непривлекательной. Совет командиров и санитарные комиссии долгое время безрезультатно боролись с этим взглядом.
— Двадцать раз в день переодеваться! — говорили коммунары. — Конечно, тогда ничего не сделаешь. Только и знаешь, что развязываешь да завязываешь ботинки!
Пришлось вводить строгие правила.
Удалось, наконец, добиться, чтобы, отправляясь в школу, ребята переодевались. Но уже к вечеру каждый ходил, как хотел.
Однако довольно скоро наступали перемены. Когда для клубов и столовых наша мастерская изготовила новую прекрасную мебель, заменившую тоненькие киевские диванчики, стало для всех очевидным, что эту мебель мы сможем привести в негодный вид в самый короткий срок. Наша санкомиссия очень легко провела на одном из общих собраний, запрещение входить в клубы и в столовую в рабочей одежде. Энергичные ДЧСК стали настойчиво приводить в исполнение постановление общего собрания.
— Фомичев, выйди из столовой!
— Чего я буду выходить?
— Ты в спецовке.
— Не выйду.
ДЧСК берется за блокнот. Фомичев знает, что кончится рапортом и выходом на середину на общем собрании, но я ему хочется показать, что он не боится этого.
— Пиши в рапорт, — говорит он. — Я все равно не выйду.
Тут приходит на помощь более решительный дежурный по коммуне:
— Не раздавать первому отряду, пока Фомичев не переоденется.
Этот ход сразу вызывает более выгодную для санкома перестановку сил.
Первый отряд отходит на тыловые позиции.
— Почему из-за одного Фомичева мы должны сидеть за пустым столом?
— Я не буду спорить с каждым коммунаром, — настаивает ДК. — Что вы, маленькие?
С ДК ничего не поделаешь, без его ордера обеда из кухни отряду не отпустят. И члены первого отряда нападают уже на Фомичева:
— Вечно из-за тебя возня!
Фомичев отправляется переодеваться.
К общему удивлению, число таких конфликтов среди коммунаров было очень незначительным. Зато пришлось немало повозиться с рабочими.
В дверях нашего «громкого» клуба — дежурный отряд. Один из дежурящих вежливо заявляет:
— Товарищ, нужно переодеться.
Рабочий принимает все защитные позы и окраски и даже рад случаю повеличаться: