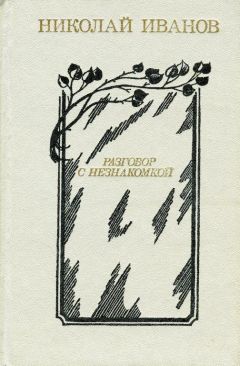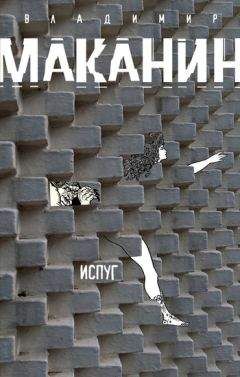Через три дня Иван отыскал меня на дальнем току. Работали мы на сортировке зерна в ночную смену. Гулко и монотонно шумели агрегаты. Из-под дощатого навеса в тусклом подрагивающем свете лампочки выбивались густые клубы пыли. Дождавшись, когда кончится моя «вахта», Иван утащил меня далеко в сторону от тока. Мы забрались в полуразвалившийся саманный сарайчик, где хранился старый полевой инвентарь, какие-то химикаты.
Обжигая руки, он светил мне спичками. А я читал письмо от Нее. Письмо было интересным и неожиданным для меня. Я понял, что «лед тронулся». Девушка была заинтригована. Вкратце она сообщала о себе, о том, что закончила в этом году десятый класс и поступила на курсы медсестер, мечтает стать врачом. Дальше обильно цитировались Есенин, Лермонтов и… свои стихи. Что это были за сочинения — трудно теперь сказать. Но что-то там все-таки было. Чувствовалось, что человек не без способностей, да и по стилю письма, по языку можно было уже судить об эрудиции и интеллекте. В финале, помнится, она усомнилась в искренности наших с Иваном слов в том письме, где речь шла о ее чарах. Все, мол, любят говорить комплименты. Что-то в этом духе.
Здесь же, на току, мы сочиняли ей ответ. Столько лет прошло, а все еще помню какие-то строчки из того письма. Велико, видимо, было мое вдохновение и жажда помочь другу, когда я выводил на листках от записной книжки: «Вы недоверчивы, как Людовик XIV… А сколько змеиного яда на Ваших прекрасных устах! Но я готов пить его, как нектар, сбираемый пчелами с душистых весенних цветов. Дайте же еще одну порцию яда!» Высокий штиль, как видишь — мы тоже не лыком шиты. В то же утро Иван отправил письмо. А через несколько дней я увидел их уже на стадионе вместе. Они сидели в сторонке и, склонившись друг к другу (как когда-то она с подругой), тихо о чем-то говорили. Может быть, о чем-то молчали. Потом Иван провожал ее домой. А вечером, уединившись, мы снова обсуждали с ним «наши» дела. Кроме писем, надо ведь было делать что-то еще. И в силу своих скромных возможностей и познаний я старался научить своего друга хотя бы какому-то минимальному этикету. Начали мы с того, чтобы правильно произносить, не искажать и не коверкать в разговоре русские слова, с чистых носовых платков, с цветов, что несут на свидания. Поначалу скептически относившийся к подобным условностям, теперь Иван проникся глубочайшим доверием ко всему, что я ему пытался передать. Больше молчал, не переспрашивал. Вздыхая, молча кивал на мои слова. Встречи его с Раисой даже при взаимном желании не могли быть частыми. Работали мы по двенадцать — четырнадцать часов в сутки — разгорелась тогда небывалая в Сибири первая целинная страда. И завязалась у них бурная переписка. В письмах мы втроем обсуждали новости и проблемы искусства, вели разговоры о живописи, о всевозможных течениях, с вопросами, ответами, с мнениями, не забывали о музыке и о театре, но прежде всего — о поэзии. Она присылала много своих стихов. Я отвечал ей — своими, Иван тут же старался заучить их, переписывал в записную книжку. В школьные годы я не раз пытался писать стихи. Не один я, видно, прошел через это. Но участие в переписке захватывало меня все более и более. И потоком пошли вдруг стихи.
Не пишешь мне и как живу не знаешь…
А я грущу и думаю о том,
Что ты меня все больше забываешь,
Мой взгляд и тот представишь ты с трудом.
Но верю я — и в этом нету позы! —
Что в нашей среднерусской стороне
Твои такие чистые березы
В разлуке не забыли обо мне.
И если ждешь кого-то вечерами
Под кроной их, платочек теребя, —
Я все равно их белыми руками
От воровства уберегу тебя!..
Никогда не забуду. Танцы в Доме культуры. Иван прошелся с нею в вальсе круг, и встали они в сторонке. И говорят, говорят. А он нет-нет да и посмотрит в мою сторону. Чувствую, познакомить, видно, хочет. Но я сделал знак ему, покачал головой — не надо, мол, ни к чему. Ее пытаются приглашать ребята. Она не идет. И когда Вольдемар едва ли не насильно увел ее на танец, Иван подошел ко мне. Знаешь, говорит, вот скажи мне сейчас она, вот скажи что-нибудь, вот пожелай… И замолчал, замялся, точно захлебнувшись словами. А я посмотрел на его горящие глаза-угли, на сильные плечи, на грудь могучую, дышащую счастьем, сжал его руку крепко и пошел к выходу. И радостно мне было за него, и страшно.
Как волновался я, когда уезжал он на свидания! Не подумала бы она чего, не заметила бы… А он приезжал весь аж светящийся от счастья. Собирал ребят, угощал их невесть откуда добытыми яблоками, ликером «Шартрез» (единственный напиток, что был в местном сельмаге), играл на гармони-хромке. И приговорка у него была забавная, из дома, верно, привез он ее. Хлопнет, бывало, кого-нибудь тяжелой рукой по плечу и прикрикнет басовито: «Первый парень на деревне — вся рубаха в петухах!» А то вдруг задумается, загрустит — и нет его, нет на долгие часы, а порой и по нескольку дней не видно. Умел он как-то исчезать и появляться внезапно. А однажды пропал дней на десять. Как оказалось, посылали несколько машин, и его «газик» в том числе, «на прорыв», на выручку в один из дальних районов, в глубинку. И проститься не смог он со мной, не успел разыскать меня, не было времени у них на сборы. Через десять дней появился. Опять разбудил меня глухой поздней ночью. Не мог, видно, утерпеть, не мог до утра дождаться. Руки у него дрожали, когда протягивал мне серый помятый листок бумаги. И прочитал я в начале того письма такие слова: «Дорогой мой, единственный! Как истосковалась я по тебе…» Дальше читать не стал. Знаешь, сказал он мне в ту ночь, увезу я ее будущим летом на Оку, ей-ей, увезу. Покажу сады наши, березы… Насовсем? — спросил я его. Ну, нет, ответил он раздумчиво и вздохнул. Рязанщину только показать, деревеньку нашу. А потом — назад. Дом здесь буду строить. И эту, говорит, землю обживать надо, русская же земля. Не мы первые, не мы последние. Да и ее тут встретил, на этой земле, на сибирской, нету пути мне теперь отсюда…
Дня через два после этого разговора снова уехал Иван в район. И не скоро пришлось нам увидеться. Увезли меня в больницу в Красноярск с воспалением легких, с высочайшей температурой. Многие из нас работали на лесосплаве, многие, так же, как и я, не раз и не два промокали в ледяной енисейской воде, простужались многие, но пневмония прихватила только меня.
Помнится, одно утро солнечное было, ведренное, морозное. Мне уже было лучше. Я стоял у окна, размышлял. И вдруг открывается дверь, и в палату входит Иван. В халате, наброшенном на старенькую гимнастерку, в кирзовых с подвернутыми голенищами сапогах. Привез он мне посылку из дома и письмо. Такой радостный был для меня этот день, такой солнечный. Показал он мне несколько писем от нее. Тут же мы набросали ответ ей. Возможно, я заготовил и одно-два письма впрок. Уезжал от меня Иван довольный, со светлой улыбкой, заведя машину у проходной, дал длинный прощальный сигнал. Я выглянул в окно и увидел его высунувшегося из кабины с высоко протянувшейся вверх рукой. Так и запомнился мне он в своей кабине улыбающийся, красивый, неистовый.
* * *
Первый день после отпуска начался сурово. Вызывал «на ковер» шеф. По дальневосточному материалу Паши Середы прошла ошибка. Не столь значительная, скорее даже не ошибка, а опечатка (либо машинистка напортачила, либо в наборе напутали), однако достаточно досадная, чтобы иметь серьезные объяснения с шефом. Вот что значит не вычитал сам корректуру того номера, а положился на помощника, посчитал, что если его материал — ему и карты в руки. Ему карты, а спрос — с тебя. В результате — «поставить на вид», «усилить контроль».
Увалень Паша сидел в углу за своим столом, посасывал резной пижонский мундштук, пыхтел.
— Ну ладно, микрошеф, не дуйся, — бурчал он себе под нос. — Кто не работает, тот не ошибается…
«Эх, Паша, жаль все-таки, что ты Середа, а не Пятница…» — подумал Александр Дмитриевич, но промолчал.
Так и прошел день в тягостном напряжении. Александр Дмитриевич просмотрел скопившиеся читательские письма, составил несколько ответов. Работать не хотелось. Едва дождавшись конца дня, он спустился вниз, у подъезда редакции перехватил такси.
Дома его ждал еще один сюрприз. Вместе с газетами из почтового ящика он достал большой пухлый конверт со знакомой эмблемой в углу. Один из журналов, продержав более полугода, возвращал его рассказы. «С интересом ознакомились с рукописью…» — сообщал спрятавшийся за размашистой китайской подписью имярек. Несмотря на такие-то и такие-то отмеченные достоинства, рассказы отвергались.
В комнате было холодно. За окнами нещадно морозило, а батареи едва теплились. Александр Дмитриевич набросил на плечи старенький, выцветший, многие годы выручавший его армейский бушлат, включил на кухне газ и присел в темноте в углу, наблюдая за резвым фиолетовым пламенем, пляшущим над конфоркой. И когда прикурил от этого пламени сигарету, ему нестерпимо, как никогда, захотелось поговорить с Незнакомкой. Он уже начал привыкать к этим «разговорам».