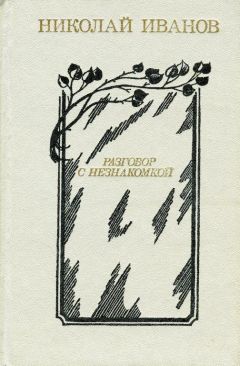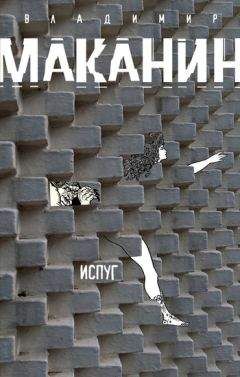И отрубила Раиса. Не пришла на встречу с Иваном и раз и два. Не пустила его и на порог своего дома, ударив наотмашь страшными, уничтожающими словами. И написал тогда гордый русский парень ей письмо-мольбу, где просил о единственной, пусть самой последней, встрече. Написала в ответ горькие строки, отказала во встрече. Умчал Иван из нашего городка на машине в одну из ночей. Не появился ни утром, ни вечером. Искали его по всей округе, не нашли. Вернулся лишь через сутки, точно взмыленного коня осадив возле штаба ревущий, по уши заляпанный густым жирным черноземом «газик». Выбрался из кабины и тяжелым нетрезвым шагом пошел к своей палатке. Отстранили его на следующий день от машины. Приказали не отлучаться с территории городка. Не послушал он приказа. Ночь лишь провел в палатке. Пролежал на койке одетый, с головой укрывшись армейским бушлатом. Утром не обнаружили ни его, ни машины. А в полдень в штаб сообщили о несчастье. Машину нашли километрах в двадцати от лагеря, на дороге, у края обрыва. А его внизу, под откосом, на железнодорожных путях возле будки стрелочника. Он лежал в крови, без сознания. В нескольких метрах от него пощипывала пожухлую примороженную траву пестрая корова стрелочника. Возле ее ног путался полугодовалый рыжий теленок с белым пятном на лбу. Я был там, — и на откосе, и на путях возле коровы, которая как ни в чем не бывало паслась себе в сторонке, не первый год, видно, паслась. Я попытался представить себе, как все происходило здесь в эту страшную минуту. Не скрою, не единожды представлял я себе роковой шаг Ивана, по-разному представлял. И все же истину доведется мне познать значительно позднее, в последний день моего пребывания в лагере целинников, когда найду под своим матрасом записку в четыре слова: прощай, дружище, береги ее… Надо же, не сразу ведь обнаружил я эту записку, а через много дней. Значит, и это продумал он.
Ты хочешь спросить, виделся ли я с ней? Да. Я знал, что она придет. Знал, что она не сможет не прийти. Была у нас с ней встреча на земле сибирской. Было потом много встреч в разных других краях. И много писем. Но мне не хочется об этом говорить сейчас. Трудно. Это другая история. И я расскажу тебе ее, если ты захочешь, но уже когда мы встретимся по-настоящему.
Много лет прошло. Много. Я не могу представить себе сейчас его облик, лицо. Никаких, конечно, фотографий он не оставил никому. Но звучит до сих пор у меня в ушах голос, сочный, густой, непоставленный, чуть-чуть разухабистый, но живой и кровно, братски родной. Первый парень на деревне — вся рубаха в петухах! Это все, что осталось мне на память.
* * *
— Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало!.. — Александр Дмитриевич глубоко вдохнул морозный воздух, закашлялся и, достав носовой платок, прикрыл рот. Потом, отступив на шаг от обрыва, повернулся. Перед ним стояла девчушка в зеленой шубке, отороченной внизу такой же, как и воротник, цигейковой опушкой. Он положил ей руки на плечи и продолжал азартно, заговорщицки заглядывая ей в глаза: — Съедемте вниз, Надежда Петровна! То бишь… Марья Александровна… Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.
— Ну, папа! — девочка взмахнула рукавичкой. — Какой-то! Я же знаю, как ты любишь и помнишь Чехова. Но зачем же его перефразировать?..
— Не учи ученого! — Александр Дмитриевич сделал вид, что обиделся. — И вовсе я не перефразирую, а просто в паузе произнес твое имя. Понимаешь, в па-у-зе…
— Пап, а разве тут, где мы стоим, горы? — она притопнула ногой в мерзлую землю.
— Горы, конечно, Маша, только раньше они были выше.
— Почему?
— Не было вокруг высоких домов. Вон посмотри, что вокруг Лужников творится, а сюда обернись, на Воробьевку…
— Интере-есно!
— Молодец, что ты Чехова знаешь. А ну-ка, теперь скажи, с чьими великими именами связаны Воробьевы горы?
— Как с чьими? С Лениным…
— Ну, с Лениным — само собой. А еще?
Они медленно брели вдоль парапета. Внизу, в широкой лощине, вдалеке, за силуэтами столичных небоскребов, мерцали сквозь дымку золоченые купола и рисовалась четкая линия кремлевского ансамбля.
— С кем связаны, с кем связаны, с кем связаны… — повторяла Маша, вычерчивая рукавичкой на заиндевевшем парапете нотные знаки.
— Какие два великих человека стояли здесь много лет назад?
— Ну, па-апа! Сразу все ясно. Они здесь давали клятву. А где именно?
— Чуть подальше, где-то неподалеку от трамплина и церквушки.
— Здорово как! Пошли туда…
Александр Дмитриевич прикурил, выпустил колечко дыма и посмотрел на дочь. Щеки ее разрумянились, широко распахнутые серые счастливые глаза смотрели на него из-под побелевших моргающих ресничек. Он не мог оторвать взгляда от ее лица. И время вдруг повернулось вспять. Он увидел маленькое живое существо с льняными волосами, напоминающее куклу средних размеров. И это существо вцепилось мертвой хваткой в его штанину, притопывало в возбуждении и совсем уж крохотным перстом показывало на шумный проспект, на вереницу машин, громко оповещая улицу: пателли, пателли-и! Это было первое слово. И потом дома у окна при виде такси — пателли! И во дворе при виде ободранного, поставленного на вечный прикол «Москвича» — пателли! Бог ты мой, — спохватывался он в недоумении, — не ошиблись ли врачи в роддоме, не чужеземных ли кровей ребенок. Но еще больше переполошился он, когда слова пошли потоком, русские звонкие слова, но… без единого «р». Страшно ему стало, неопытному отцу, при мысли, что чадо так и будет изъясняться на полузаграничном диалекте, и превратился он в логопеда, фонетикой занялся с дитем малым. И на третьем году жизни, на даче, ребенок стал выдавать первые философские выкладки: папа, а если под курочку положить помидорки, то цыплятки красненькие будут? Подумать только, — и сразу столько твердых «р».
— Машенька, сколько же тебе теперь лет?
— Пап… ты что? Какой-то… — девочка подняла воротник шубейки, обиженно отвернулась, — знаешь же, в один день с тобой родились и в одном месяце.
— Да помню, помню, что в один день! Просто года как-то вдруг перевернулись, я вот сейчас твою «пателлю» вспомнил.
Маша заморгала, захлопала снова ресничками, улыбнулась, покачала головой и захохотала, захлопала в ладоши.
— Урра! Хочу пателли!
— Ты права, дружок, пора на такси, ты замерзла, вон аж закуржавела вся. — Александр Дмитриевич перчаткой отряхнул Машин воротник. — Так, значит, ровно через два месяца тебе четырнадцать — в мае?
— Ага!
— А в комсомол когда вступать будешь?
— В день своего рождения.
— Ух ты! Вот это — молодец. Я тоже в свой день, — и в пионеры, и в комсомол… — Александр Дмитриевич привлек к себе девочку, поцеловал в раскрасневшуюся огненную щеку и из-за плеча ее увидел приближающуюся к ним машину с зеленым сигнальным фонариком на ветровом стекле.
* * *
Он замедлил шаг и остановился у дерева. Из-под густой кроны доносился непонятный гул, точно негромкий мерный голос слаженного хора плыл откуда-то издалека, щемя и обволакивая душу медленной истомой. Александр Дмитриевич наклонил голову и шагнул под навес ветвей. И сразу же оказался будто под пологом, сотканным из розово-перламутровых цветов яблони. В этом розовом мареве плавно, без суеты, переплывали с цветка на цветок крупные мохнатые пчелы. Это от них, от их движений такой звон шел, Александр Дмитриевич стал осторожно выбираться из-под дерева. Пухлые тяжелые ветки коснулись его головы, обронив в волосы полупрозрачные лепестки. Потом он долго шел садом, а лепестки падали и падали с яблонь и застревали в его густых волосах. Впереди, среди белых деревьев, мелькнул куст сирени. Он бросился к нему, ветви яблонь упирались ему в плечи, не пускали дальше, он с силой раздвинул их, рванулся вперед и, увидев Незнакомку, замер. А она, протянув над головой длинные гибкие руки, обламывала веточку сирени. Завладев наконец пушистой фиолетовой гроздью, пристроила ее себе в волосы и обернулась к Александру Дмитриевичу.
— Так хорошо? — спросила, улыбнувшись.
Александр Дмитриевич стоял неподвижно, онемев, и смотрел на нее на расстоянии.
— Ну, отвечайте же наконец, — настаивала она. — И подойдите ближе, какой вы странный!
Александр Дмитриевич силился что-то сказать, откликнуться и не мог повернуть язык. И тут позади нее из-за деревьев раздался чей-то негромкий голос, кто-то позвал ее.
— Я сейчас вернусь, — обронила она и исчезла.
Он долго стоял, потрясенный тем, что наконец услышал ее звонкий, чистый и, оказывается, до боли знакомый голос. Стоял и ждал. Она не возвращалась. Он торопил, торопил ее мысленно, а она не шла. Он решил прочесть ей стихи. Это же естественно, думал он, они для нее написаны, ей принадлежат. И мысленно стал проговаривать строфы: