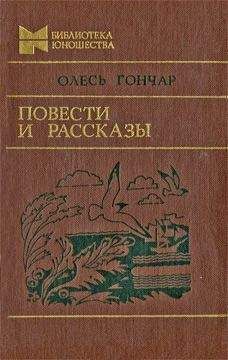Сколько пережил человек, а мы, ежедневно встречаясь с ним на заводе, скромным, немногословным, так и не знали до сих пор, какой у него путь за плечами.
Рассказ Павловского навевает на нас грустные воспоминания о войне, склоняет каждого на невеселые раздумья, и после этого уже как-то и разговаривать не хочется. Молча сидим вокруг угасающего костра, слушаем стрекотню кузнечика.
Потом расстилаем камыш, располагаемся на ночлег. До утренней зорьки у нас остается не так много времени.
Ночь прозрачная, бесшумная, теплая; словно бархатом окутывает человека этот мягкий степной воздух. Хорошо, хорошо, что мы поехали сюда зоревать! Какой бы там ни была наша завтрашняя охота, но я уже счастлив тем, что очутился с товарищами здесь, среди просторов этих Чары-Камышей, где ночь словно и в самом деле какие-то чары таит в себе, загадочно о чем-то перешептывается с камышами, а озеро все больше светится под луной, а наши высокие заводские дымы за Днепром все сильнее отсвечивают багровым…
Ночью я просыпаюсь, разбуженный непонятным тревожным шумом. Где я? Ночь, озеро, внизу камыши шумят — шумят сильно, тревожно. Все небо в облаках, клубящихся, темных, и лишь там, поближе к луне, они стального цвета. Как все изменилось вокруг! Приподнявшись и озираясь, я не узнаю нашего места, — все вокруг стало будто иным, фантастическим, тревожащим душу, суровым. Вода на озере словно отяжелела, переливается тяжелым перламутром; ветер гонит волну. И ветер какой-то необычно теплый, будто днем. Шуршит на ветру кукуруза, бежит шум по камышам. Не этот ли тревожный шум и разбудил меня? Облака низко клубятся над Чары-Камышами, а над городом нашим в тучах бушуют огромные сполохи зарева. Никогда я не видел таких!
А товарищи спят. Кто-то даже храпит, крепко, беззаботно, кажется, наш пожарный.
Спят, однако, не все. Недалеко от машины на самом холме виднеются две человеческие фигуры; в одной из них, меньшей, ссутулившейся, узнаю Петровича с ружьем на плече, с ним еще кто-то, незнакомый, высокий, кажется, тот колхозный конюх, что приходил к нам вечером. Негромко разговаривая, они поглядывают вверх, в небо, на клубящиеся, изнутри освещенные луной облака. Речь идет, слышу, о японских рыбаках, пострадавших от ядерных испытаний на океане, от радиоактивного пепла, выпавшего на них.
— Ни за что люди пострадали, — слышу голос Петровича. — И вины ни на ком, виновных будто нету… А они ведь есть?
— Или олениху эту неводом, среди Днепра… Ну что это с людьми происходит?
На горизонте ярко, еще ярче, чем вечером, полыхает багровыми дымами наш металлургический гигант. Впервые вижу его издали, впервые вижу, как небо над ним будто клокочет в могучем зареве, смотрю, и странное волнение охватывает меня: есть нечто доброе, обнадеживающее в этих наших огнях. Этой ночью отсюда завод открывается совсем по-новому, предстает в чем-то большом, нежели просто ковши с расплавленным металлом да вспышки горящего газа над бессемерами… Сполохи в полнеба, родной огонь за Днепром — я впервые ощутил отсюда его силу, огромную, титаническую.
В моем представлении почему-то возникает с детства знакомый обелиск, возвышающийся на площади перед нашим заводом, с чугунной фигурой Прометея вверху. Сами наши рабочие, среди которых был и Петрович, еще в двадцатые годы, в одну из годовщин революции, отлили того Прометея в память своих погибших товарищей, и с тех пор черный чугунный наш Прометей стал будто знаком завода.
И сейчас эти сполохи за рекой, немеркнущее зарево до самых облаков для меня почему-то сливаются с его образом.
Вторично я просыпаюсь от выстрела, внезапно раздавшегося где-то в конце озера. Схватываюсь, мне кажется, что уже светает и я все уже проспал. Нет, еще не светает, это луна поднялась высоко и, вынырнув из-за туч, светит мне прямо в лицо.
Степан-бригадир, тоже схватившись от выстрела, сразу же смотрит на часы: можно ли стрелять:
— Уже можно, — говорит облегченно. — Давно перевалило за полночь.
Кто же стрелял?
Стрелял, несомненно, обер-мастер, вырвался первым, раньше других. Ну да теперь пусть бьет: теперь разрешается. Только что он мог сейчас там увидеть в темноте?
— Должно быть, в «крякуху» свою шарахнул, — говорит пожарный, переворачиваясь с боку на спину.
Мы еще могли бы поспать, но сон уже не идет, после выстрела каждого начинает разбирать охотничий зуд: лежим, переговариваемся, курим в ожидании зорьки.
Зорька ужо скоро, хотя ночь вокруг будто сгустилась: луна отодвинулась, потонула где-то в облаках. До сих пор зорька мне представлялась непременно в полыханье чистого утреннего неба, но сегодня небо на востоке облачное, и наша зорька особенная: не по рдеющему небосклону здесь определяют ее, а по чему-то своему, охотничьему, возможно, по шуму крыльев в воздухе, ибо хотя вокруг стало будто еще темное, однако то здесь, то там — дальше, ближе — слышим приглушенное, энергичное:
— Пильнуй! Смотри!
— Пильну-у-й!
Торопливо расхватываем патронташи, ружья, спешим к озеру занимать свои места.
Бригадир на ходу сует мне коробку спичек.
— Забредешь в камыш — присвети!
Зачем?
— Чтобы с той стороны по тебе кто не трахнул.
Ах, вот зачем!
— Спасибо, товарищ бригадир…
— А ты тоже смотри в оба, чтоб второпях кому-нибудь дроби в мягкое место не нагнал.
Все чаще раздаются выстрелы. Мне уже видно, как над камышом то тут, то там ярко-красными струями вырывается огонь из ствола, и я, волнуясь, бегом бегу к своему месту. Стою в камыше у самой воды, по ту сторону озера камыш трещит, кто-то уже там ходит, покашливанием давая знать о себе. А вокруг стрельба нарастает, уже и вблизи меня, опадая, бессильно лопочет дробь на листьях камыша, травы… Все больше волнуясь, я бросаюсь то сюда, то туда, не знаю, в какую мне сторону смотреть. В небе еще темно, пасмурно, я там ничего не вижу, хотя слышу, вернее чувствую, что вверху полно уток, полно летящих, рассекающих воздух крыльев. Где же они? Почему не летят на меня?
Постепенно становится светлее, и мне уже видно Степана-бригадира, который стоит левее от меня в зарослях камыша. Я вижу, как он то присядет, то выпрямится, и приложившись, бьет, бьет, и оттуда, сверху, чуть не на голову ему вдруг — гуп, гуп! — падает одна, падает вторая.
Степан бежит, подбирает и, не теряя времени, снова целится вверх, куда-то за холм. Припомнив его наставление, что утки будут лететь больше всего против ветра, то есть именно оттуда, из-за холма, я тоже становлюсь лицом в ту сторону, и только стал, взвел курки, как на меня вдруг совсем низко, почти над камышом, надвинулась стая черных, упруго летящих торпед…
Ба-бах!
И, не веря собственным глазам, вижу, как, отделившись от стаи, стремительно падает вниз моя первая добыча…
Бросаюсь туда, вижу, как, запутавшись в темной, густой траве, что-то белое бьется, трепещет. Беру и чувствую, как пульсирует в руках что-то горячее, и мне становится вдруг неловко, тоскливо, и я уже будто не рад своей удаче.
Прибегает, жадно дыша, Степан. Я впервые вижу его таким взволнованным, возбужденным.
— О, утенок!.. Поздравляю! Только жив еще, подранок… Добей!
Добить? Нет, я этого не могу. Почему? Просто не могу и все!
Степан выхватывает у меня утенка из рук, и я, еле успев отвернуться, слышу короткий удар о приклад.
В груди у меня будто что-то оборвалось, но вскоре неудержимая охотничья горячка овладевает мною: начался лет! Все небо, посветлевшее, раннее, летит на нас.
Чалые летят.
Крыжни.
Широконосы.
Резвые бекасы, тарахтаны, кроншнепы!
Я бью, бью и… мажу, мажу. То ли волнуюсь после первой удачи, то ли и сам не знаю, что со мной происходит.
Степан, заметив частые мои промахи, советует мне перейти к той вон заводи и попытаться бить на воде. Там такое место, что должны быть лыски.
Я перехожу туда. Присев в камыше, по щиколотку в воде, осматриваю поверхность озера. В конце озера замечаю вдруг на открытом месте силуэт одинокой крупной утки. Кажется, чалая! Дух захватывает от желания подкрасться, выстрелить, я, согнувшись, уже делаю несколько шагов в ту сторону, как неожиданная догадка озаряет меня, спасает от конфуза: «крякуха»! Это же плавает на воде выставленная обер-мастером «крякуха»!..
Интересно, много ли набил старик? Палил еще с ночи, а вот, не удовлетворившись тем, что набрал на воде, решил еще, видно, попытать счастья и в воздухе. Настороженно присев под камышом, не отрывая глаз, следит за пролетающей резвой стаей бекасов, или «хвастунов», как он их называет. «Хвастуны» летят прямо на старика, раздается выстрел, вздрогнула вся стая, накренилась в воздухе и, поднявшись выше… весело улетает дальше. Обер-мастер еще долго смотрит вслед, словно ожидает, не упадет ли хотя одна. Нет, не падает.
Устроившись в камыше, я начинаю наблюдать за густыми зарослями противоположного берега. Камыш там тянется стеной, местами заходит в самую воду, отражается в ней мерцающей тенью. Там, где тень, вода словно темное зеркало. В одном месте в камыше разрыв, просвет, и вот туда я нацеливаю все свое внимание. Мне показалось, что там что-то мелькнуло, скользнуло по зеркалу воды. Сижу, не шевелюсь. Проходит некоторое время, и вот из камыша осторожно, как-то грациозно выглянув, выплывает на воду она, лукавая водяная озорница… Лыска! Без малейшего звука, легким, скользящим движением плывет она по зеркальной поверхности. До чего же славная, глаз не могу от нос оторвать!