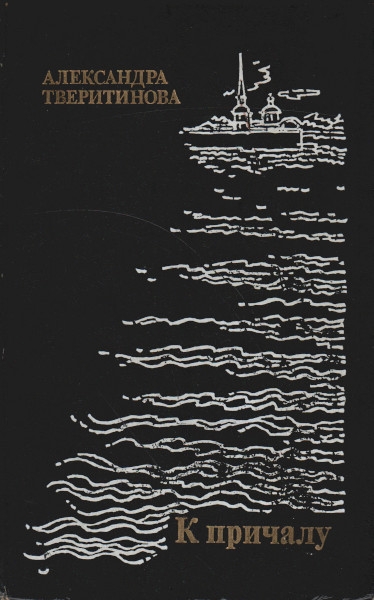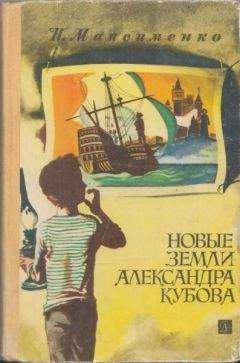Упрямый марселец. Не понимает. Француз.
Кирилл
...наклоняюсь к изголовью Жизни, щупаю ей пульс, наблюдаю ее глазами диагноста, ищу оправдание себе.
Впрочем, это ерунда. Как это мы когда-то с тобой говорили. «Чем бы ты ни жил, все равно это — Жизнь». Мое кредо сегодня. Все — Жизнь. Даже когда стоишь с протянутой рукой у церкви на улице Дарю. Или стоишь ночью в темном переулке, темной, в декабре месяце, ночью, весь продрогший под моросящей леденистой мерзостью, и заглядываешь в чужое окошко, где тепло и на столе дымится в тарелках горячий суп, и у отца на коленях младенец норовит ручонкой в тарелку, а потом идешь по скользкой темной улице в свою дыру — ты не думай, это в прямом смысле. На самых что ни на есть задворках Парижской окраины, за порт Итали — по-русски: за Итальянской заставой, там присмотрел в развалинах бывшего дома удобный такой закуток, выкроил себе там, в полуподвале, что-то вроде лежанки, уютно и удобно, я бы сказал, даже комфортабельно, в сваленном в углу мусоре понабирал себе старые, конца прошлого века, «Иллюстрасион», и еще какой-то литературный хлам, не хуже сегодняшнего, без начала и без конца, изгрызенный мышами, читаю, пожалуй, даже интереснее сегодняшнего. Читаю при свете фонарика — подвесил на веревочке над самой лежанкой.
Пиши на тот же номер почтового отделения, как раньше.
Кирилл
От сестры Лили письмо получил, мама умерла. Вскоре после того, как поняла, что отец обманул ее, и никогда ей меня не вернет.
Спасибо тебе за найденную Лилю. Нежно целую твою руку — одну, потом другую. Как раньше...
Кирилл
...я примирился. Я со всем теперь примирился. Бывают минуты, когда кажется, что больше так не вытянешь, но они проходят, а ты продолжаешь жить. Но теперь я примирился. С божьей помощью примирился.
Говорят, что это ужасно — отдаться на волю божию. Теперь готов в это поверить...
Кирилл
Письма Кирилла... Пишет почти всегда в состоянии подпития. Пишет на бумажках, вырванных из школьной тетради, на каких-то мятых клочках со следами кофейных или винных пятен, обрывки фразы, недосказанные мысли, ни начала, ни конца.
Письма его то смешат, то угнетают, то восхищают или рвут душу нестерпимой болью. Не всегда ему удается совладать с собой: думы о трагической смерти матери, невольной причиной которой был маленький он, тоска по сестре Лиле; мысли о сестре уводили постоянно в то далекое детство, которое он любил безмерно. Но не только тоска по Лиле постоянно возвращала его мысли к своему детству на Родине. Что-то важное из его прошлого не вмещалось в его жизненные полосы зарубежные, и это «что-то» было связано с его загнанным глубоко внутрь отчаянием.
Связь с Кириллом оборвана. Вот уже третий месяц.
Жано разыскивает его.
...У меня все ладно. Между прочим, пишу тебе из больницы. Больница хорошая, хоть и основана для бездомной братии, клошаров, по-русски — бродяг. Все равно хорошо, что она есть, братия эта, бродяги.
Упал я. Вышел из бистро, помнишь, что напротив кладбища, со светящейся вывеской «Лучше здесь, чем напротив» и остроумным галлом-хозяином. Забредаю иногда пропустить здесь рюмку-другую. Закрою глаза и вроде бы даже слышу голоса ваши. Вышел, хотел было перейти дорогу, вдоль кладбищенской стены, и грохнулся. Сломал ногу, растрескал бедро. Эскулапы говорят, срастется. Славные малые, эти французские эскулапы. Мне тут и не плохо вовсе. Тепло. Потолок есть. Народ хороший, больные и здоровые. Я им тут для отделения плакаты разные пишу, по дереву выжигаю. Славно. Вот только Эрнестина, палатная сестра, спокойно мне жить не дает! Подумаешь, бутылку коньяка у меня под матрасом обнаружила, беда-то какая. Дела-то на две копейки, а шуму подняла, можно было подумать — мир рушится! И добрейшей ведь души человек. В остальном все ладно. Тепло.
Тут он меня и нашел, Жано. И что я ему дался?
Кирилл
На костылях кое-как передвигаюсь.
Вчера появился вдруг Филипп. Тоже, как и марселец, как ни прячусь, а нет-нет и находит. Сын. Славный малый. Сорбонна за плечами. Я на заводе по двенадцать часов выбивал... Поэт сын.
Читаю Чехова. Хорошо бы мне его на русском, Чехова.
Кирилл
Сестра Кирилла прислала мне письмо главного врача больницы Шаритэ. Письмо-ответ на ее запрос о брате. Доктор-француз ответил ей незамедлительно. Пишет, что обаятельный русский их больной, талантливый и большой души человек, ушел из больницы без их ведома, ушел неизвестно куда и неизвестно совершенно, что послужило тому причиной, потому что отношение к нему персонала, как и больничной администрации было безупречным, что он очаровал их всех в больнице, больных и здоровых, что он ушел, не закончив лечения, что лечившие его врачи в тревоге за его бедро, что администрация пытается разыскать его, вернуть, долечить, но что разыскать его не просто, так как у него нет постоянного адреса, но что они будут еще пытаться, и как только... он сообщит мадам незамедлительно...
...ушел от Филиппа...
Знаешь, какой меня ожидает конец? Вот. Однажды утром парижанин возьмет газету и прочтет, что бездомный, клешар в общем, раздавлен на улице машиной. Или умер от «сердца», выброшенный на рассвете из ночного бистро, а может быть, все это чересчур романтично. Может, он будет жить вечно, переживет всех, только нервы его откажут, спиртное или просто время возьмет свое, и пока серые зимние дожди заливают оконные стекла дешевых кафе, он будет утро за утром просиживать в темных этих подозрительных бистро, склонившись над газетой, тщедушный, лысый старичок, в грязном, обтрепанном пиджаке. И эти утренние трезвые часы — это единственное, что ему будет оставлено прожитыми годами, что было его подлинной сущностью. Теперь его жизнь, как бы она ни сложилась, будет пустой и случайной, — отходами, кислой, вонючей сывороткой подлинности.
Кирилл
...После прожитого дня я пошел к монахиням. Вымысля, попил чаю, в кухне было чисто, тепло. И побрел, кутаясь после теплого душа в свое тряпье. Ни о чем не спрашивают меня. Спасибо им за это.
Кирилл
Сегодня мой день красивой жизни — день моей пенсии. Каждый месяц у меня один красивый день. Мне его делает Комитет Сопротивления. Пенсия у меня вполне достойная. Но ее мне хватает на один только день. Потому что