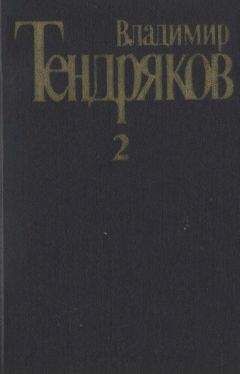А я, чтоб он не увидел моего неприветливого лица, поспешно нагнулся за чемоданом.
Меня посадили рядом с шофером, Ващенков и Валя уселись на заднем сиденье. Он имел право сидеть рядом с ней. Мы еще близко, я еще слышу ее голос, но мы уже расстались, она чужая и говорит сейчас чужим голосом.
— Наталью Павловну видела? — спрашивал Ващенков.
— Два раза заходила, — поспешно, без запинки отвечала она. — Никого не видела. К Тетюховым тоже не собралась зайти… Ходила в театр, в кино, была вот на обсуждении доклада Андрея Васильевича. Ты знаешь, кого я там встретила? Лещева!..
Валя боялась вопросов Ващенкова, потому была излишне словоохотлива. Она лгала. Мне был неприятен ее оживленный голос, по осуждать ее я не мог. Как ей поступать? Если б мы что-то решили, если б знали, что нам делать. Нет никаких решений, нет планов, единственный выход для нее, как это ни неприятно, как ни унизительно, — лгать. Она лжет и не стыдится передо мной.
Солнце опустилось. Впереди, над колючим лесом, куда поднималась пыльная дорога, на полнеба разлился зеленый закат. В этом прозрачно-зеленом разливе плавала Венера — крупная бледная звезда. Загарье близко, за лесом начнутся поля, за полями покажутся крыши первых домов.
Я до сих пор не верил, что прошлое можно вернуть. Оказывается, можно, по крайней мере на время.
Когда машина въехала в село, остановилась, я, захватив свой чемодан, простился.
— До свидания, Валентина Павловна.
Опять она для меня не Валя, а Валентина Павловна, опять «вы» в обращении. Все по-старому.
12
В школе нет занятий, поэтому вставал я поздно, не спеша завтракал, перекидывался за столом равнодушными фразами с Тоней, не спеша шел в школу.
Все стало для меня безразлично. Поражение на ученом совете — плевать, предательство Павла — о нем и не вспоминал, а выжидание Коковиной, ее молчание, не обещающее ничего хорошего, замыслы Василия Тихоновича, с которыми он носится с прежним упорством, то соболезнующее, то настороженное отношение учителей ко мне после газетной статьи — все к черту, ни о чем не хочу думать.
Я вспоминал. Вся моя жизнь теперь состояла из воспоминаний тех удивительных дней, которые я провел вместе с Валей. И чем мельче, чем незначительней события приходили на память, тем больше наслаждения они мне доставляли.
Болезненные наслаждения! Тоня за завтраком мне рассказывала, что младшие сыновья Акиндина Акиндиновича устроили на крыше сарая клетку для голубей. Наташка тоже лазает с ними, а крыша худая, долго ли провалиться… Она говорила, а я глядел на ее чужое, знакомое до тоскливого отупения круглое лицо с маленьким жестким ртом, а сам думал о том, как, набродившись по городу, мы уселись на скамейке. Возле нас ковырялись в песке дети. Валя сидела, опираясь локтями на колени, выставив вперед плечи, веки у нее опущены, но глаза под светлыми ресницами живут, с затаенной улыбкой следят за играющими детьми. А лицо покойное, разглаженное, ни мысли на нем, ни желания — вся отдалась отдыху, ничего ей больше не надо, достаточно того, что есть: солнца, то скрывающегося, то прячущегося за облаками, легкого ветерка, неподвижности, моего тихого соседства. Я тогда мог взять ее за руку, почувствовать влажное тепло ее ладони, перебрать ее топкие пальцы. Я не сделал этого. Теперь жалею…
А утро в гостинице, пустынный город, усталый свет фонарей, пение птиц в росяной зелени скверика… Мы не испытывали тогда радости, мы были подавлены, нас пугало будущее. И вот это будущее наступило — оно скучно, серо, безрадостно, но вовсе не страшно. Стоило тогда думать о нем, стоило портить счастливейшие минуты! Эх, если б вновь повторилось! Если б опять сидеть перед окном, смотреть на пустынный город, на непотушенные фонари, слушать птиц.
А после того как расстались с Лещевым… Смоченная дождем зелень, асфальт, отражающий огни фонарей, сияющие витрины, праздничная вереница прохожих… Валя мудрей меня, она быстрей почувствовала радость, первая признала ее: «Как я счастлива!» — и прислонилась плечом…
Я еще сомневался в этом, я не решался согласиться с нею. Теперь вспоминай, кусай кулаки — все, что случилось тогда, неповторимо, прежнее не вернется. Она прислонилась, теплая, доверчивая — сейчас я готов кричать от нежности.
Повернуть бы все обратно, повторить бы сызнова, если б возможно такое чудо — остаться в тех днях, видеть ее, слышать ее, быть рядом с нею.
Просто не верится, что она сейчас живет рядом. Десять минут ходьбы — и ее дом, ее лестница, ее дверь! Что стоит пойти туда, подняться по лестнице, открыть дверь и сказать: «Не могу больше! Нельзя жить! Нет сил терпеть эту муку!..» Десять минут самым вялым, самым медленным, самым неуверенным шагом до ее дверей. Рядом же! Не за тридевять земель!
Люблю! Но чего-то жду, не осмеливаюсь прийти к ней, сказать, нет, не просто сказать, а потребовать: «Идем со мной!» Потребовать так, чтоб не ослушалась. А Наташка, а семья, а люди, а как глядеть потом в глаза Ващенкову? То-то и оно, не хватает ни сил, ни решимости перешагнуть через все это.
Так прешло три бесконечных дня, три тяжелые ночи. Утром четвертого дня я направился, как всегда, в школу. По улице пропылила райкомовская «Победа». Я не успел заметить, сидит ли в ней Ващенков. Там мог сидеть и Кучин и другой райкомовский работник. Но мог и Ващенков… Машина выскочила на мост, обдала пылью бревенчатые перила и скрылась во Дворцах.
И у меня появилась решимость пойти к Вале, только сейчас, только не откладывая на другой раз.
С тяжело стучащим сердцем я поднялся по лестнице. Вместо страшных слов: «Не могу. Нельзя жить», — я спросил:
— Вы дома?
Она вышла из комнаты в выцветшем халате, непричесанная, с остановившимся взглядом. Она не бросилась мне навстречу, а стояла, положив руку на горло, и жадно смотрела.
— Вот… Решил зайти… Не мог…
Она опустилась на дощатый диванчик, стоявший в прихожей, я сел рядом с ней. Она припала к моему плечу и заплакала. Я стал гладить ее спутанные волосы, вздрагивающие плечи, гладил, что-то говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.
— Что же делать?
— Не знаю.
— Я кругом изолгалась… Я противна себе… Он начинает догадываться…
— Догадываться?.. Может, это к лучшему?
— Он хочет уехать отсюда.
— А ты?.. Ты хочешь уехать?
— Не знаю.
Она плакала, я гладил ей плечи. Ни на что не было ответа.
— Иди, — сказала она, освобождаясь из моих рук.
— Я посижу еще.
— Зачем? Так хуже.
— Я не могу уйти.
— Нет, иди. Если ты здесь останешься, будет походить на воровство. Я не хочу этого. Ты мне нужен не на день, не на вечер. Иди…
Я покорно ушел.
А она мне разве нужна на день, на вечер? Тоже на всю жизнь она нужна мне! Я теперь это твердо знаю. Нельзя ждать решения со стороны, надо самому решать.
13
Тоня тоже стала замечать, что после поездки в город я очень изменился. Возможно, ей даже кто-то из досужих осведомителей успел что-либо шепнуть на ухо. Она смутно догадывалась, но эта догадка была так страшна для нее, что она не решалась высказать ее вслух, только ко мне приглядывалась, иногда пробовала расспрашивать о городе.
— Как там? Весело было? Не один, чай, ездил, было с кем проводить время.
— Весело, — отвечал я скупо. — Ты видишь, какой я веселый оттуда приехал.
И она умолкала, у нее не было прямых доказательств. Мою угрюмость, мое нелюдимое настроение можно объяснить еще и провалом при обсуждении доклада, предательством Павла, его статьей в газете.
Я же пытался решить тяжелый вопрос: оставить мне Тоню, дочь, дом, уйти и начать новую жизнь? Валя ни словом, ни намеком не давала мне понять, что ждет от меня такого решения, но я знал: ждет, не может не ждать, не она мне, а я ей должен приказать, позвать ее.
Наташка… По утрам, как и прежде, возле моей подушки появляется ее милая рожица. Она всегда встает раньше меня. У нас с ней крепкая дружба. Я для нее всемогущий и всеумеющий, и, если у меня есть свободное время, а оно не часто случалось, для Наташки большой праздник. Летом в солнечные дни мы мастерили большого змея — две лучины крест-накрест, крепкая бумага и веревочный хвост с двумя пустыми катушками из-под ниток на конце. Этот змей поднимался выше крыши нашего дома, выше старой березы, выше всего в селе, даже выше колокольни старой церкви. Я передавал упругую, гудящую на ветру бечевку в слабенькие ручонки Наташки, приказывал крепко-накрепко держать и бежать бегом, сам бежал вместе с ней, вместе с ней смеялся и радовался, только что не визжал от восторга вместе с ней.
А в ненастные осенние дни мы с ней читали книги. Она знает всего четыре буквы, из которых складывается ее имя, книг же сама читать не умеет, зато умеет их внимательно слушать. Ох, эта милая сосредоточенность и углубленность на детском лице, а ее счастливый смех, когда выстроганный из полена Буратино бьет деревянными кулачками папу Карло по лысине!.. Мы еще умели с ней вдвоем искать на необитаемом острове спрятанные пиратами сокровища. Для этого нам не надо было уходить из дому, мы могли путешествовать, сидя за столом, склонив головы к большому листу бумаги. На этом листе моя рука рисовала контуры неизвестного всему миру острова с заливами, реками, озерами, болотами, скалами. Нас двое отважных путешественников, вооруженных ружьями и лодками. Мы плаваем по реке, на нас нападают крокодилы, мы стреляем диких кабанов, разводим костры (они помечаются на листе красным карандашом), жарим свинину. И, конечно, в конце концов мы находим пещеру, где стоят бочки с золотом и сундуки с драгоценными камнями. Мы радуемся и сожалеем. Радуемся, что наше путешествие так удачно окончилось, сожалеем, что оно все-таки окончилось.