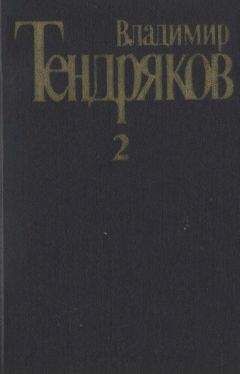И я отказываюсь от тебя!
Петра переводят в Никольничи. Я все ему сказала, все! Люблю! Не поеду! Уж лучше бы закричал, лучше бы ударил, нет, он только произнес: „Теперь — конец“.
Не могу убивать человека. Жалость? Да! Но есть что-то еще, сильнее жалости. Чем счастливее все у меня устроится, тем больше начну думать о нем. Вечное мучение, вечные угрызения — не могу, не могу!..
Теперь — конец…
Ты еще близко. Выскочить, добежать… Никогда ты так близко не будешь. Исчезнешь. И помешать нельзя.
Прости. Нет сил… Валя“.
Внизу уже не чернилами, а карандашом, который прорывал бумагу, поспешно, воровски брошены неразборчивые слова:
„Выезжаю второго, к вечернему, в четыре…“
Сегодня второе июля. Письмо написано позавчера. Больше суток шла оно десятиминутное расстояние от Валиного дома до моего. Я взглянул на часы: без четверти два. Она еще здесь. Ни боли, ни отчаянья. Я бессмысленно верю в какое-то чудо.
15
Во дворе ее дома стоят два грузовика. Один уже на-гружен вещами, шоферы набрасывают брезент, стягивают веревками груз. Несколько зевак торчат на улице, глядят, как собирается в дорогу секретарь райкома. Я остановился неподалеку от них.
Пыльный булыжник на дороге. Напротив дом начальника почты Кирюхина обнесен новым, кричаще желтым забором. За железной крышей этого дома вяло склонялся колодезный журавель. Старая черемуха с сухой верхушкой раскинула рябую тень на дощатом тротуаре. Знакомая, как надоевшее лицо соседа, улица. Такой я ее видел вчера, позавчера, месяц назад, год… Я эту улицу буду видеть завтра, послезавтра, через год, быть может, через десять лет. Буду видеть и вспоминать, что здесь жила Валя.
Этот пыльный булыжник, скрипящий колодезный журавель, черемуха, забор, который потемнеет со временем. Что бы ни случилось, какими бы подарками ни осыпало меня будущее, я уже не стану счастливым. Я теперь согласен на все, мне теперь надо мало. Пусть бы шло по-прежнему, изредка бы встречать ее, знать, что она не просто мое воображение, она существует на свете, может пройти по этой улице, ступать ногами по этому булыжнику.
Праздные зеваки, прислонившись к забору, лениво перебрасываются замечаниями:
— Не дай бог так с места срываться! Маета.
— Это нам, грешным, маета. А тут тебе и машины под порог подгонят, и место в вагоне оставят: езжай себе спокойненько.
Во двор из дому вышел Ващенков, озабоченно-сутуловатый, в надвинутой на глаза соломенной шляпе, с какой-то туго набитой авоськой в руках, которую он сунул в кабину машины. Он увидел меня, постоял, опустив руки, и не спеша направился навстречу, вглядываясь из-под шляпы мне в лицо. Я не двигался, ждал.
— Андрей Васильевич, поднимитесь наверх.
Я не пошевелился, ничего не ответил.
— Поднимитесь наверх. Вас ждет Валентина Павловна.
Я неуверенным шагом направился к двери.
Пока я не скрылся в дверях, затылком и спиной чувствовал на себе взгляд Ващенкова. Он не пошел за мной следом, остался возле машины.
За моей спиной нагружают машины. В последний раз шагаю по этим ступенькам. Полумрак, обычный лестнично-чердачный запах, неуклюжие перила, отполированные руками. Неужели конец?.. Все еще надеюсь на какое-то чудо. Надеюсь…
Дверь распахнута настежь.
Валя снимала со стены знакомый пейзаж ельничка на болоте. Она не слышала, как я вошел. Ее движения были задумчивы, неторопливы. Сняла с гвоздя картину, взяла с подоконника тряпку, старательно вытерла пыль, протянула руку, чтоб положить тряпку обратно, и… застыла у раскрытого окна.
А из окна слышатся голоса, подвывание стартера, сердитая шоферская ругань. Она стояла и смотрела…
Разгромленная комната, пустые книжные полки, пятна невыгоревших обоев, обшитые мешковинами тюки, рваные газеты на полу, она, неподвижно застывшая у окна. И все-таки я не могу верить, что конец. Я в глубине души продолжаю надеяться на чудо.
Картина в раме со стуком упала на пол.
Валя обернулась. Все! Чудо не случится! Мне передалось ее выражение: на лбу, на щеках судорожно натянулась кожа, собственное лицо стало непослушным, чужим.
Она не двигалась от окна, на ее помертвело застывшем лице с напряженно опущенными углами рта широко открыты с сухим, горячим блеском глаза.
Она первая пошевелилась, старательно обходя картину, валявшуюся на полу, двинулась ко мне. На полпути опустилась на ящик, сжала кулаками виски…
Я глядел сверху на ее опущенную голову, выбившиеся из пучка волосы, прижатые к вискам стиснутые кулаки и молчал. Я мог лишь тупо осознавать: она плачет, ничем не могу ей помочь, не могу вместе с ней плакать.
А из раскрытого окна долетал подвывающий звук стартера. Никаких мыслей в голове, кроме самых простеньких, ненужных, отмечающих события: плачет Валя, одна из машин во дворе не заводится.
Звук стартера смолк, снова донеслась сердитая ругань.
Она отняла от головы руки, поправила сбившуюся юбку на коленях, глядя в пол, глухо, запинаясь, произнесла:
— Андрюша… Ты бы воевал на моем месте?.. Ты бы защищал себя, скажи?..
И эти виноватые, запинающиеся слова вывели меня из оцепенения. Она не уверена в своей правоте, она ждет ответа. На минуту появилось волчье желание: а что, если потребовать от нее — перемени решение, не уезжай, останься? Что, если заставить ее защищать свое право на счастье? Свое и мое! Такого случал больше не представится!
А Ващенков?.. Он послал меня сюда, а сам ходит сейчас под окнами. Беспомощный в эту минуту человек — убрать его с дороги? А Валя?.. Я перед ней хочу быть всегда и во всем чистым. Хочу, чтоб она мной гордилась. Она, возможно, даже согласится сейчас: убита, в смятении, любит! Сейчас согласится, но пройдет время — оглянется, вспомнит, что без жалости переехали человека, начнутся угрызения… Что может быть гаже счастья, устроенного на чужой беде?
Я молчал. Валя подняла голову — просительные, влажно блестящие глаза, обмякшее после слез лицо.
— Так надо, Андрюша, — сказала она тихо, и по интонации нельзя было понять, оправдывается она или спрашивает, ожидая моей поддержки.
И я молчал.
— Пиши мне…
— Писать? А может, не надо?.. Зачем напоминать, зачем травить друг друга?..
— Андрюша, милый! Ты последнее у меня отнимаешь!
— Уже все отнято…
Лицо ее передернулось, губы задрожали.
— Как ты не понимаешь?! Как ты не догадываешься?!
В это время громко застучали по лестнице шаги, мужской голос басовито спросил:
— Можно?
Несколько человек — шофер и комхозовские рабочие, — переминаясь, нерешительно поглядывая на нас, вошли в комнату.
— Извиняемся. Вещички остальные забрать…
Валя встала с ящика.
Стук, шум передвигаемых на полу тюков, голоса: „Подхватывай с того конца!.. Придержи!.. Правей, правей!..“ Нас оттеснили в угол. Валя безучастно следила, как проталкивают в дверь объемные тюки.
Вытолкнули последний ящик. В комнате стало просторно, вызывающе голо, сильней били в глаза невыгоревшие пятна обоев на стенах, захламленность пола.
Шум голосов, скрип, стук раздавались уже на лестнице.
Валя нервно передернула плечами:
— Закрой дверь.
Я плотно прикрыл дверь в прихожую, вернулся к ней.
— Валя, — заговорил я, — раз уж ничего нельзя сделать, раз уж так вышло… Надо отрубать. Каждое письмо и для тебя и для меня — страдание. Валя!.. — Я старался заглянуть в ее опущенное лицо. — Родная, милая, что нам еще делать, что делать? Решили так… Что ж… Как нелепо!..
В дверь раздался стук.
— О господи! — Валя мученически сморщилась.
Вошел Ващенков, уставился в пол, произнес:
— Прошу простить. На станции могут быть осложнения с вещами. Валя, я сейчас уеду… распоряжусь там… Через два часа за тобой подадут легковую…
— Нет! — резко перебила Валя. — Поеду с тобой. Через пять минут я спущусь вниз.
Ващенков, глядя под ноги, помялся, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал, повернулся.
И едва дверь за ним прикрылась, Валя бросилась ко мне, схватила руками за плечи, совсем рядом заблестели ее глаза.
— Андрюша! Мне нужно знать, что ты помнишь обо мне, ты думаешь, хочу даже, чтоб ты любил! Хочу! Все может случиться! Сейчас ничего не могу, а потом… Вдруг да повернется, вдруг да он поймет?.. Я надеюсь! На невозможное надеюсь! Других надежд нет… Не отнимай этого!
В эту минуту я услышал за прикрытыми дверями на лестнице медленные и тяжелые шаги. Ващенков, должно быть, задержался в прихожей, слышал слова Вали.
Я обнял Валю, она до боли стиснула мне шею. Ее щека была мокрой и горячей.
Ветер ворвался в окно, прошелестел газетой на полу, во дворе вдруг взревел мотор, взревел и, словно испугавшись, заглох. И в комнате и во дворе наступила тишина. Валя разжала руки.