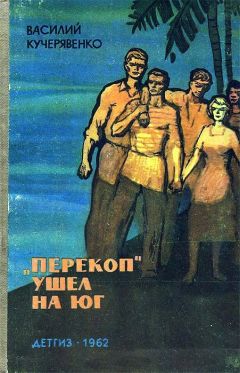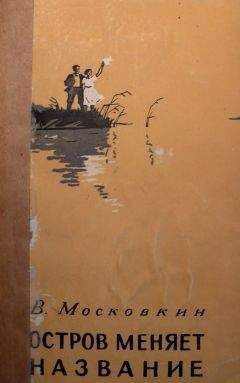Грязнов с бешеной ненавистью смотрел на дрожащего от животного страха и потому особенно противного обличьем Захарова. Казалось, он сам готов был разорвать его на куски, но не за какую-то там Анну Белову, которая полезла в петлю, — за то, что такие, как он, неумные люди, которым доверена власть, беспричинно вызывают столкновения между администрацией фабрики и рабочими. Подлые и мелкие в своей сущности, они создают излишние и ненужные осложнения.
— Ваше требование будет удовлетворено! — гневно выкрикнул он, взмахнув рукой в сторону Захарова. — Завтра же вылетит «за орла»! А сейчас оставьте его, — с презрением закончил он. — Не стоит внимания.
И то, что он легко и естественно употребил выражение «за орла», бывшее в обиходе только у рабочих, сразу расположило к нему людей, пропала суровость на лицах, некоторые улыбались. Что бы там ни было, а Грязнова уважали, может быть, даже любили за его умение обращаться с рабочими.
— А нехай сам дальше едет, — уже весело сказал тот самый рабочий, тщедушный, со впалыми щеками, и бросил веревку. Конец ее хлестнул по лицу сидевшего в ящике Захарова, тот болезненно дернулся, смотрел на Грязнова с надеждой — все еще не понимал, что директор отказался от него в угоду сохранения того карточного домика, который он соорудил и заботливо берег.
— По местам, ребята, расходитесь, — приказал Грязнов, подделываясь под тот тон, который лучше всего сейчас отвечал настроению рабочих.
Вернувшись в контору, он расслабленно опустился в кресло — нелегко все же играть роль, несвойственную своему характеру. Закрыл глаза и снова увидел толпу и грохочущий по ступенькам лестницы ящик, того рабочего, что зло выкрикнул: «Бери его себе в дворники али еще куда». «Хамье! Какую волю взяли… Чтоб так разговаривать…» Порывисто потянулся к кнопке звонка, вжал ее до отказа в гнездо. В дверь просунулась озабоченная, с выражением готовности сделать все, что скажут, физиономия Лихачева.
— Фавстова ко мне. Быстро!
Болезненно скривил рот — дурная привычка, от которой безуспешно старался избавиться. Лихачев поспешно захлопнул дверь: он-то знал, что директор косоротит только в сильном гневе, боялся его в эти минуты.
Грязнов опять закрыл глаза. Теперь увидел трясущийся подбородок и неровные желтые зубы Захарова. Передернулся от отвращения. «Глупец! Злобный глупец! Завтра придет просить, будет в ногах валяться. По возрасту попадает под мобилизацию. И пусть, пусть защищает отечество, завоевывает Константинополь. Ему-то, наверно, этот Константинополь прежде всего необходим…»
Еще до прихода пристава услышал за дверью какую-то глухую возню, приглушенные голоса. Прислушался, а потом опять нажал кнопку звонка. Как-то боком, чуть приоткрыв дверь, втиснулся раскрасневшийся конторщик. Прядь жидких бесцветных волос свалилась на потный лоб.
— Ну, что там? — почти крикнул Грязнов.
— От рабочих из ткацкой делегация. Требуют еще уволить… Выгнал я их, сказал, что не примете.
— Правильно сказал — не приму. Узнал, кого они еще хотят уволить?
— Своего же рабочего, Полякова. Смею заметить, из благонадежных.
— Знаю. Объяснение какое приводят? Чем он им помешал?
— Прогнал я их. Не успел спросить. Могу выяснить.
— Не надо, — устало махнул рукой Грязнов.
Вошел Фавстов. Крепкий, с крутым лбом, веселыми глазами. Отдал молодцевато честь. «Чего так весело болвану?» — разглядывая пристава, подумал Грязнов. Но разговор повел учтиво, с подчеркнутым уважением. И даже обычное обращение к полицейским чинам «слуга государев» прозвучало ласково, без насмешки.
— Хотел бы знать о ваших наблюдениях. Каково настроение рабочих? О чем больше говорят? О войне что говорят?
— Причин для беспокойства нет, Алексей Флегонтович, — приятным густым басом начал Фавстов, в такт своим словам постукивая пальцем по краю стола. Веяло от него здоровьем и уверенностью, причем уверенность была такая естественная, что Грязнову сразу полегчало, позволил себе даже улыбнуться.
— Все-таки какие-то слухи ходят? — спросил он.
— Слухи, Алексей Флегонтович, ходят. Когда они не ходили? Слушаем, да не всему верим. Оно, видите ли, когда летом радостные сообщения о победах воинства были — слухи были благополучные. Сейчас почему-то толки не прекращаются о предстоящей смене власти и в центре, и на местах. Тут уж я не могу даже и сказать, откуда что идет и есть ли какие основания. А так, больше о вздорожании цен, о спекулянтах. На Московском вокзале взяли на днях двух субъектов. Получили багаж из пяти больших коробов, на которых клейма Красного креста. Подозрительным показалось. Когда вскрыли упаковку, обнаружились там одеяла, простыни из чудного полотна, наволочки, сорочки, кальсоны. На вопрос: «Откуда вещи?» — ответили: «С театра войны». Весь город об этом говорит. А нежелательно. Обобщения неверные делают. Солдаты разутые, раздетые в окопах мерзнут, а их генералы, дескать, о наживе думают…
— Да-да, — Грязнов уже слушал рассеянно, без интереса: или в самом деле ничего не знает, или хитрит Фавстов. Одно отметил: «Толки не прекращаются о смене власти в центре и на местах».
— Вы все в общем, так сказать… Хотел бы знать о наших рабочих.
— Ну, тут все благополучно, — живо откликнулся Фавстов, вкусно облизнув полные ярко-красные губы, здорового человека губы. — Тишь и довольство, Алексей Флегонтович. Смею заверить… — Честно глянул в глаза внезапно нахмурившегося Грязнова, что-то его сразу смутило, но продолжал с той же уверенностью: — Не сочтите за лесть, из опыта своего сие суждение… порядка такого образцового нигде не встречал, как на вверенной вам фабрике. А приходилось бывать и у Классена в Романове, и на Норской мануфактуре Прохорова — не видал такого порядка…
— Известно вам, слуга государев, что при таком порядке полчаса назад сидящий перед вами распорядитель фабрики едва не стал калекой?
Палец пристава, до этого барабанивший по столу, замер в воздухе.
— Извините, — с растерянностью выдерживая жесткий взгляд Грязнова, проговорил он. — Не совсем понимаю.
— Понимайте. Людей у вас, которые бы осведомляли, не занимать. Обратите внимание на чахоточного вида человека… Суетлив и несдержан. Вспомнить не могу, но где-то встречал, сталкивался с ним.
Стоявший у двери конторщик Лихачев напомнил о себе покашливанием. Грязнов сумрачно посмотрел в его сторону.
— Колесников, — подсказал тот. — Евлампий Колесников. Только что был здесь. Не пустил я… Это о Полякове они…
— Ну вот видите, Колесников, — словно бы в укор Фавстову проговорил Грязнов.
— Надлежащие меры будут приняты, — заверил Фавстов. Круглое, с здоровым румянцем лицо его было сосредоточенно, а веселые до этого глаза говорили, что он понимает желание директора и предпримет все, лишь бы тот был доволен.
— Прощайте, пристав. Советую серьезнее относиться к настроению людей. Благодушие в такое время не к лицу. Но не переусердствуйте.
— Помилуйте! — вспыхнув от обиды, воскликнул Фавстов. — Законность для меня священна. Кстати, о принятых мерах, как и всегда, будет доложено.
— Давай записывай, чтобы еще и прощения просил. И не только у них — когда мы всем скопом будем, перед нами пусть винится. Так и пиши, пусть оставляет свои хитрости… А то одним ухом слушает, головой кивает согласно, а сам уже решает, какую подлость сотворить. Пиши: «Потребовать от директора при всем народе, чтобы покаялся, а ежели выпущенные из тюрьмы Колесников, Васильев и Абрамов захотят того, чтобы у них прощения просил».
Артем почесал кончиком карандаша за ухом, взглянул в разгоряченное лицо рабочего — вдавленный с боков потный лоб, коротко стриженные с сединой волосы, горящие лихорадочным блеском темные-глаза — вид человека замученного, долго терпевшего и сейчас решившегося на все, что бы потом ни было.
— Не слишком ли? — усомнился Артем. И спрашивая совета, посмотрел на стоявших рядом Родиона Журавлева и Маркела Калинина — лица у обоих были озабочены, тоже удивились неожиданному предложению Топленинова. Закрылись они в курилке, чтобы никто не мешал договориться, какие требования надо предъявить Грязнову. У двери стоял Семка. Соловьев на случай, вдруг кто пройдет из чинов фабричной администрации, чтобы заранее предупредить. Артем писал на широком цементном подоконнике.
— Федор Серапионович, — обратился он к рабочему, — высказать это Грязнову — при его-то строгости! — сорвем мы все дело. На многое может пойти, но на то, чтобы повиниться перед народом, — не те условия для этого нужны. Пока его сила, закон его охраняет.
— А ты не сумлевайся. Запрос не только в купеческом деле требовается. Не согласится — и ладно, настаивать не будем. А как о нем думаем — пусть знает.