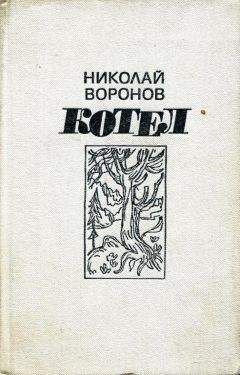Отбросил ружье. Шваркнул ботинком по короткопалому корневищу, облепленному каменной зернью. Ругался в голос. В потоке брани, как белые камушки в мутной пульпе, извергаемой земснарядом, попадались наивно-чистые слова о любви к Тамаре, о печалях из-за безотчетности ее поведения, о том, как она смела помешать его освобождению от нынешних неразрешимых страданий.
Лес притих. Перестали стрекотать сороки, дятел с алым затылком прекратил долбежку, осекся пересвист лазоревок, рябчик, с шуршанием шаставший но ольховому бурелому, замер, раскрыв в настороженности перьевые клапаны ушей.
Дорогой на станцию Вячеслав поуспокоился. В глубине души он был счастлив, что осмотрительность Тамары спасла ему жизнь, хотя и кочевряжился перед самим собой, будто все еще возмущен ее вероломством.
Ксения, когда у нее случалась неприятность, хотела бы, да не могла быть нерадостной. Еще в школе кто-то из мальчишек определил особенность ее натуры: дал прозвище «Мячик» отнюдь не за пунцовые щеки, за то, что почти непрерывно подскакивала.
Смятенная понурость Вячеслава не отзывалась в Ксении даже легкой прихмурью. Правда, она одобряла его строгость («Нашей сестре позволь слабинку — в пропасть скатимся. Поднаплодилось бесстыдниц»). Она понимала, что в суровых му́ках вызревают серьезные мужчины. Свою заботу о брате она видела в том, едва он перебрался к ним с Леонидом, чтобы вернуть ему прежнюю жизнерадостность. Хотя он и был немтырем и не ходил ногами до трех лет, характером он в них с матерью.
Вчера, возвратясь в город, без заезда домой он направился в копровый цех. Во время смены, как казал Леонид, Вячеслав угрюмо с д ы ш а л, словно вернулся с похорон. Леонид мастак выведывать чужие секреты, но, как ни хитрил, задавая Вячеславу вопросы с подходцем, тот так и отмолчался. А раньше не то что не таился — сам напрашивался с переживаниями: вникни, без лукавства и жалости разбери. Коли замкнулся — вовсе заплутал или накануне неожиданного решения, ну, прямо такого, какое взбудоражит родню.
Диван, на котором спал Вячеслав, был короток. Так как Вячеслав лежал, вытянувшись во весь рост, — голова перевесилась через валик, а ноги, угнездясь пятками в продавы другого валика, нелепо торчали вверх.
«Огромина! Готовый мужик!» — восхитилась Ксения, но через мгновение опечалилась. Все не терпелось: «Сень, когда вырасту?» «Ну, вырос. Куда торопился? Как почнут на тебе ездить... Кабы мы были, как солнышко. Как почнут ездить кто во что горазд, не успеешь оглянуться — износился, болячки. Отец в тебе изверивается. И ты, возможно, разочаруешься в своем сыне? И зачем рос? Ой, да что это я хандрой окуталась? Вырос — и ладно. Птицы и те не без заботы. Человек без заботы, что самолет без турбин. Кем бы мы были, если б не горе, не подлость, не заботы? Беззащитными лежебоками, равнодушниками... Эк выдул! Сильный да добрый, не какой-нибудь чертопхай».
Еле сдерживая проказливый смех, Ксения подошла на цыпочках к дивану. Она собиралась зажать Вячеславу нос. Его четко выкругленные ноздри, прямо раковины, подзадорили ее веселое намерение.
«Перекрываю клапаны!» — сказала она себе, преодолевая желание запрыгать, и придавила указательными пальцами его ноздри.
Вячеславу снилось, что он, глядя вперед, мчался под гору на санках. Дороги на склоне не было, поэтому он не опасался транспорта. Когда вдруг стало нечем дышать, он решил, что нос забило снегом, и дунул в ноздри. Нос почему-то не продулся. Вячеслав хватнул воздух ртом и проснулся от воркующего смеха сестры. Пробурчал:
— Чего балуешься?
На Ксению он не умел сердиться.
— Нельзя разве растормошить братца? Растормошу! Не скисай. Не молчи в платочек. Единокровный, а как чужой. Иль забыл пословицу: свой своему поневоле друг.
Ксения пробовала добраться пляшущими пальцами до его боков. Он обтянулся одеялом, и, хотя ей удавалось дотрагиваться до них лишь через ткань, он брыкался и взвизгивал.
— Нянь, я ж боюсь щекотки.
Она хотела укорить Вячеслава за скрытность, а сказала умилительно-довольным тоном:
— Славка, Славка, выдул ты с высоковольтную мачту, а все у тебя повадка мальчугашки.
— Ксень, лукавишь.
— Поделись.
— Поделился бы, да ведь транс.
— Транс?
— Все спуталось в душе и замерло.
— В уверенности была: поехал мириться.
— Качели.
— Что стряслось?
— Качели.
— Заладил: качели, качели.
— Беспонятливая. Взлет, точно к богу на облако! И — падение. Еле уцелел. Короче, бесчувственность.
— Рассержусь, верста ты коломенская. Хватит водить в тумане.
— Ксень, а ведь я живу!
— Неспроста ты радужные пузыри пускаешь.
— Ничего прекрасней человек не может себе пожелать, чем остаться жить.
— Вон почему ты петли петлял. Я изнервничалась, когда мама позвонила в машзал и сказала, что ты поехал к Тамаре. Она мне: я, мол, заставила Славу ружьишко захватить. А я про себя: смерть родному сыну в руки вложила. Она мне: обещался боровой дичи настрелять. А я: себя бы не угрохал. Я радостная, а сегодня многажды радостная: живехонький лежишь, чумовой ты мой братец! Не отвертишься все-таки. Поскольку мы безбожники, в попах не нуждаемся, но душу-то излить у всех бывает приступ. Я заменю тебе духовника. Ну-ка, исповедуйся.
— Для исповеди не созрел.
— Не подошло настроение?
— Надо осознать, что грех, что блажь. Справедливость отделить от заблуждения, соблазн от высокого чувства. Ксень, боюсь подмены. Любовь вроде перегорела. Благодарность ли чё ли?
— Эх благодарности тебе мало! Армию отслужил, а все дурошлеп, как подросток. Вы, мужчины, неблагодарны, потому благодарность презираете. Благодарность ни на сколь не ниже любви. Разобраться, так чего-чего не понамешано в любви: сладость с горечью, нежность с жестокостью, свет с тьмою, благодарность с ненавистью. Очень много благородства могут проявить люди друг к другу. Боготворишь — ты благодарен, проявляешь ответно великодушие. Я за Леонида вышла... Обо мне у парней было скудное соображение. На танцульки ей бы все... Просторней зал — туда норовит. Для вальсов прежде всего. Закруживалась до тошноты. Тому взбрендится — Ксения безмозглая ветродуйка, этому... Он приставать, я по мордасам. Леонид сразу определил: весельчачка, но умна, вертушка, да строгая. На жизнь какие только пертурбации не падут. Нытик, брюзга, паникер, Фома неверующий возле меня всегда будет задорный, как плясун во время присядки. Благодарна Леониду: определил с налета. Лучше моего мужа нет.
— Хвальбушка.
— Ясный человек, без подвохов. Собирались пожениться, он говорит: «Я голубятник. Уважай мою привязанность к птице». Увы, согласилась. Отгуляли свадьбу, положили нас в постель. Я никому не рассказывала. Между нами. На рассвете очнулась. Лап-лап, а рядом — тютю, пусто. По комнатам пошныряла, нигде Леонида нет. Зима. Оделась. Во двор. Следы в снегу.
— Детективная история.
— Не умничай. По следам до лестницы на чердак. Поднялась потихоньку, дверцу приоткрыла. Разговор, а второго человека не вижу. Прислушалась. А он к голубям: я, дескать, определился, семейный, это вам не хухры-мухры. По случаю свадьбы калил для вас подсолнечные зернышки. Накормлю вкусно до отвала. Завтра прошу не обессудить: начнутся будни. Корм пойдет обычный: ржаное охвостье, овсянка, перловка, горох да чечевица и самая малость пшенички. Прикрыла дверцу и обратно в дом. Ты вот нежишься, а он давно укатил на мотоцикле к голубям. Делится между ними и мною.
— Зато ясность.
— К чему я клоню, братец? Отношения без ясности кончаются коротким замыканием, после чего цепь духовная, душевная ли и еще какая прерывается.
— Ксень, а ты улучшила историю своей жизни.
— Сказанёт... Губы вот оборву. Вообще-то, братец, женщины тщеславны. И у меня были качели. Людям, братец, необходимо ограничивать себя. Соблазнов много, а жизнь одна. Я знаю женщин... Меняли мужей, заводили любовников. Мотушки. Не расцвели. Наоборот. Преступника видно по лицу. Жесткое лицо, окостенелое. На женщин этих глянешь, и сразу видно: истасканные, растлительницы, грязь от них... Ты не должен считать меня старомодной. Строгая самодисциплина для всех времен хороша! Как-то снимаю с веревок белье во дворе, подростки — кто в бадминтон, кто в волейбол... Две девчонки из соседнего подъезда от одних к другим шныряют и всем одни слова: «Мы за свободную любовь». Под грибком женщина сидела, ее сынок в песочке играл. Она вдруг хвать мою веревку, догнала девчонок, давай хлестать. Они завизжали, убегать. Она догоняет, полосует их, полосует. Принесла веревку. Саму аж трясет: «Распутницы проклятые. В парке собачью свадьбу устроили. По подвалам таскаются. В милицию забирали, в штабе дружины стыдили, родителей штрафовали, а все совесть не проснулась». Без личной дисциплины, братец, человек превращается в гнуса.