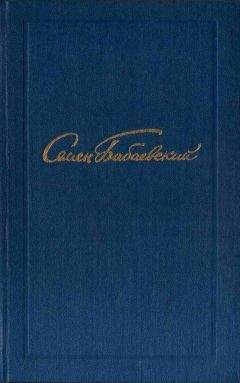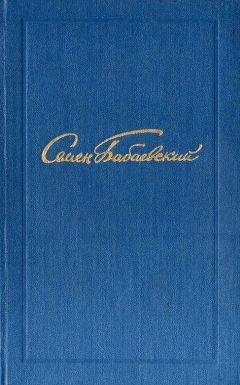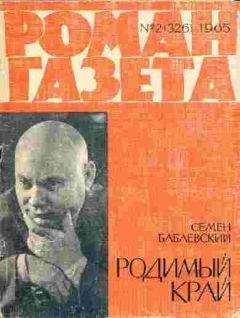— Да, это меня радует, пора бы нам давно и всерьез заняться семенниками, — сказал Барсуков, еще не понимая, зачем же он все-таки понадобился Солодову. — Лучших земель для твердых пшениц, нежели наши земли, не найти. И если засучив рукава взяться за дело по-настоящему, с огоньком, то не только в «Холмах», а на всех рогачевских полях, в любой по погодным условиям год можно получать такие урожаи, каких еще не знала история земледелия. И тут надобно не жалеть ни усилий, ни средств на расширение орошаемых посевов. В этом отношении может пригодиться опыт «Холмов»…
— Совершенно справедливо, — согласился Солодов. — И опыт «Холмов» пригодится, и за дело надо браться о огоньком и, что называется, засучив повыше рукава. — Тут впервые на сухощавом лице Солодова затеплилась улыбка. — И эта нелегкая задача, Михаил Тимофеевич, возлагается на тебя.
— То есть? Не понимаю.
— Да, да, именно на тебя!
— О «Холмах» не беспокойтесь, я все сделаю.
— Речь-то не о «Холмах». Есть мнение назначить Барсукова начальником Рогачевского управления сельского хозяйства.
— Странно. — Барсуков смотрел на Солодова, на его спокойное и, как всегда, грустное лицо и не мог понять, шутит ли он, или говорит правду. — Это что же? Как понимать? И чье мнение?
— Мое, — ответил Солодов. — Да и не только мое.
— А как же «Холмы»… без меня?
— Подберем достойного преемника. В «Холмах» дело налажено, а вот крупное, интенсивное зерновое хозяйство в районе только-только зарождается.
— А как же Назаров, теперешний начальник?
— Уходит на заслуженный отдых. Да, признаться, эта работенка была бы ему не по плечу. Не потянул бы.
— Из Холмогорской я никуда не поеду! — багровея, решительно заявил Барсуков. — Не поеду — и все! Имею я на это право?
— А если состоится о тебе решение?
— Не поеду! Без моего согласия не имеете права. — Стараясь говорить спокойно, Барсуков тихонько добавил: — Поймите, ведь «Холмы» — это моя жизнь. Сколько положено усилий, и все это оставить? Бросить и куда-то уехать? Ни за что!
— Можешь спокойно выслушать?
— Могу.
— Так вот: оставаться в «Холмах» я не советую.
— Ну почему? Перерос самого себя? Так, что ли? Или в Холмогорской мне тесно? Но я же не жалуюсь на тесноту.
— Имеются, Михаил Тимофеевич, две причины, и обо веские, — не отвечая Барсукову, продолжал Солодов. — Первая и главная — новая должность, которая требует не только организаторских способностей, ума, энергии, но и, я бы сказал, беззаветной любви к царице полей. Да, да, именно любви! А кто еще в нашем районе способен любить эту самую царицу так самозабвенно, как Михаил Барсуков? Никто! А кто у нас в районе знает, как выращивать высококачественные сорта твердых пшениц? Михаил Барсуков! В тридцать восемь лет тот же Михаил Барсуков получил Звезду Героя. За что? Все знают, не за красивые глаза, а за нее, красавицу, за царицу полей! — Солодов подождал, думал, что Барсуков что-то скажет или станет возражать, но тот сидел, склонив голову, и молчал. — Так кому же мы можем доверить эту работу? Только Михаилу Барсукову… Но есть и вторая причина — личного характера. Извини за мужскую откровенность: негоже, Михаил, бегать за юбкой секретаря парткома. Слухи о твоем ухаживании за Дарьей Васильевной уже доползли и до Рогачевской.
— Какая юбка? Какое ухаживание? Это же сплетни! Неужели вы им верите?
— Хотелось бы не верить.
— А что мешает? Вы же знаете, я вырос в семье Бегловых. Да, когда-то, в юности, и я этого не скрываю, я любил Дашу. Она и сейчас мне нравится. Так что же тут такого особенного и страшного?
— Разумеется, ничего особенного и страшного в этом нет, — согласился Солодов. — Но лучше уехать тебе из Холмогорской. А случай подходящий. Так что твоим новым назначением мы убиваем сразу двух зайцев!
— А если не убьете ни одного? Если промахнетесь?
— Ничего, не промахнемся, мы стрелки опытные.
— А могу я отказаться? Наотрез!
— Конечно, можешь. Но как же с партийной совестью?
— Нельзя, понимаете, нельзя мне уходить из «Холмов», — с мольбою в голосе говорил Барсуков. — Что я без них? Если не гожусь быть председателем, дайте любую работу, только в «Холмах».
— Вот этого сделать никак нельзя. Пойми меня, Михаил: мы долго думали, долго гадали и пришли к тому, что только тебе, агроному-зерновику, можно доверить это новое и чрезвычайно важное дело. Дадим в Рогачевской квартиру в новом доме, вернется к тебе жена… Так что поезжай в Холмогорскую и сдавай дела. Я поручил Дарье Васильевне провести правление. Вместо тебя можно временно оставить Казакова. Зимой в «Холмах» состоится отчетно-выборное собрание, и тогда на должность председателя можно рекомендовать, скажем, Дарью Прохорову. Как считаешь, подходящая кандидатура?
— Согласится ли Даша?
— Должна бы согласиться.
— Значит, она знает о причине моего приезда к вам?
— А как же! Как секретарь парткома обязана знать. — И еще раз на постоянно озабоченном лице Солодова появилось что-то похожее на улыбку. — Не злись, Михаил, не огорчайся. Дело-то какое берешь в руки! Позавидовать можно. Резвый конь застоялся в своем стойле, надо ему дать хорошую пробежку. Да и не сидеть же тебе в «Холмах» всю жизнь!
«Резвый конь застоялся в своем стойле, надо ему дать хорошую пробежку… Да и не сидеть же тебе в „Холмах“ всю жизнь… Так вот оно что — „перерос самого себя“… И не битюг, выходит, наваливается на хомут, а резвый верховой конь застоялся в своем стойле… А может быть, Солодов прав: не оставаться же мне в „Холмах“ всю жизнь, — думал Барсуков, въезжая в Холмогорскую. — А как же Харламов в „России“? Всю жизнь руководит одним колхозом, уже состарился, и ничего, не застаивается конь, и пробежка ему не нужна… Нет, тут что-то не то. А что? Солодов знает, что, да только помалкивает. Ему даже известно, что жена от меня ушла и что я неравнодушен к Даше. „Негоже, Михаил, бегать за юбкой секретаря парткома“… Все ему известно, и он-то наверняка знает, почему мне нельзя оставаться в „Холмах“. А царица полей и моя к ней любовь — это лишь предлог… Ну, все одно, что бы там ни было, а я, как солдат, руку к козырьку, кругом и шагом марш… Приеду прямо к Даше, ничего рассказывать ей не надо, ибо она все знает. Завтра же проведем заседание членов правления, и тогда все, прощай, Холмогорская»…
Еще не рассвело, еще Холмогорская была укрыта мокрым, с реки навалившимся туманом, а где-то далеко-далеко, может быть, за Кубанью, как-то странно и непривычно, недружным хором запели — нет, не петухи! — моторы. Голоса их были тягучи, нестройны, они то утихали, то нарастали сильнее и сильнее, и чем ближе подкатывались к станице, тем их гул, похожий на отзвуки грозы, становился явственнее, и вскоре от тяжести колес и гусениц начали содрогаться стоявшие ближе к выгону станичные постройки.
Василий Максимович проснулся не столько от гула, сколько от вздрагивания стен своей хаты. Не понимая, что происходит там, на выгоне, он встал, опустил с кровати худые, в белых подштанниках, ноги, прислушался. Гул нарастал и, казалось, доносился уже не с реки, а откуда-то из-под земли. Василий Максимович подошел к окну, ухом приложился к форточке и теперь отчетливо слышал и знакомую работу моторов, и позвякивание гусениц, и постукивание колес.
— Ну, кажись, началось, — сказал он сам себе. — Вставай, мать, послушай музыку. Кажется, пришла холмам погибель.
— Какая еще музыка? — спросонья удивилась Анна Саввична. — Чего вскочил ни свет ни заря? Спал бы.
— Такая разыгралась музыка, что аж земля дрожит.
Василий Максимович вышел в сенцы, открыл дверь, еще прислушался. Он уже не сомневался, что в этот ранний час станицу потревожили не тракторы, выезжавшие в поле, и уж никак не гроза. Это двигалась строительная техника, и ему захотелось своими глазами увидеть, куда она направлялась — мимо холмов или к холмам. Он начал одеваться, натягивал штаны и думал, как бы попроворнее выбежать за станицу.
— Куда собрался? — спросила жена.
— Надо же узнать, что там за станицей творится.
— Все тебе нужно, беспокойная душа.
Василий Максимович надел фуфайку, натянул на голову шапку и легкой рысцой помчался со двора. Пробежав по улице, которая выходила на выгон, он остановился, тяжело дыша. К нему двигались огни, их было много, словно зарево пожара поднималось от земли к небу. Вот и передняя машина поравнялась с ним. Это был «газик», он как козел в овечьей отаре шел впереди и показывал дорогу другим. Ловко, словно солдат на каблуках, он повернулся, и на том же месте, и так же проворно поворачивали и другие машины. Подойдя еще ближе, Василий Максимович хорошо рассмотрел и гусеничный трактор-тягач, тянувший на прицепе-платформе бульдозер, и грузовик с вытянутым стрелой подъемным краном, и грузовик с вагончиком на прицепе, и увертливые куцехвостые самосвалы. «Вот и достиг своего Дмитрий, — подумал старик. — Чего хотел, того и добился, а я стою и ничего не могу поделать». Распространяя гарь, оставляя на толоке следы, машины приближались к холмам, и Василий Максимович видел, как огненные снопы света уже освещали седую, издали блестевшую серебром, ковыль-траву. Стоял у дороги и грустными глазами провожал колонну. Не уходил, ждал. Ему хотелось убедиться, куда же пойдут машины: к холмам или не к холмам? И вдруг железная громада дрогнула и остановилась, послышались писк и скрежет тормозов, с частыми криками сирены смешались чьи-то голоса. Тот «газик»-вожак, что бежал впереди, развернулся и умчался в станицу напрямик через выгон, а колонна, немного постояв, с тем же тягучим гулом двинулась дальше… мимо холмов. «Ну, слава богу: прошли рядом, не зацепились, — облегченно вздохнул Василий Максимович. — Наверное, Нестерыч все ж таки подсобил и вышло не так, как желал Дмитрий». А небо на востоке уже начинало белеть. За Кубанью над лесом прорезалась узкая, как раскинутый шарфик, алая заря и ковыль на холмах теперь не серебрился, а розовел.