Ожесточась, он теперь работал без роздыха, хватаясь за все, что могло принести лишний грош; стал — вопреки своему характеру, надсадно ломая его — скуп и расчетлив: накопить денег, скорее накопить их, чтобы выбраться из сырой, оказавшейся не такой уж романтичной с к в о р е ч н и, чтоб вырвать отсюда «своих девочек». Он только работал, работал, и спина его сделалась сутулой, а руки, утяжеленные пудовыми кулаками, свисали ниже колен. В его серых, затомленных фанатичным упорством глазах нет-нет да проблескивали враждебные по отношению к товарищам-столярам искорки: «Я плохой для вас? А мне плевать!»
Однажды он увидел в переполненном трамвае юношу, который был очень похож на подросшего Ендрека, того самого Ендрека, который в ночном поезде стибрил его армейские сапоги и сидор. Здислав пробивался к парню через хмурую по-утреннему толпу невыспавшихся людей, ему мешал наплечный ящик с инструментом, его толкали и щипали, — он пробивался туда, на заднюю площадку, — и Ендрек (а может, не Ендрек?), почуяв силу чужого, целеустремленного взгляда, тоже пустил в ход локти, быстро выскочил из вагона… Осталось для Здислава выхваченным из мутной пелены утра тонкое, словно нарисованное пером на фиолетовом картоне, юное лицо с печально посвечивающими углями зрачков.
Так вот было…
И Мария все-таки дождалась: через пять лет муж перевез ее и дочку в светлую и сухую, с горячей водой в кранах квартиру в восстановленном доме краковского предместья; и когда ровно через неделю невесомый гроб с тенью бывшей Марии выносили из этой маленькой квартиры, то из-за тесноты в прихожей и на лестничной площадке вынуждены были гроб перемещать торчком, стоя, отчего убранная цветами Мария, качаясь, как бы благодарно кланялась: спасибо вам всем… спасибо, Здих, заботливый мой муж… А у мужа онемел язык, долго никто не слышал от него никаких слов. И не с кем ему было говорить, кроме как с маленькой дочерью.
3
Когда минуло еще тридцать лет, Здислав пораженно открыл для себя: дни его жизни шли медленно, а сама жизнь прошла на удивление быстро.
Прошлое оставалось как бы за зеркалом, уже неподвластное четкому видению, ускользающее от зрения; а из зеркала, когда он по утрам брился перед ним, смотрел на него плешивый, с высоким сократовским лбом пожилой мужчина, и глубокие морщины, взявшие в скобки его бледные тонкие губы, придавали лицу нечто язвительное, саркастическое даже, чего, конечно, в натуре Здислава не было или было в тех дозах, как у всякого прочего обыкновенного терпеливого человека. Внешность обманывала.
Однако Бася, вторая его жена, которую он привел в квартиру через семь лет после кончины Марии, выпивая рюмку-другую водки за ужином, всякий раз взглядывала на него с подозрением, грозила пальцем: «Хи-итрый ты… Как змей! А я не на твои пью — сама зарабатываю…» Они прожили вместе четыре года, пока Бася не предпочла ему какого-то жилистого пожарника с однозначной физиономией усердного, озабоченного лишь этим мужика-самца; и Здислав облегченно вздохнул, хотя казалось обидным, что бывшая супруга, покидая дом, унесла с собой не только нажитые в трудах два ковра, но и дешевые кухонные вилки-ложки. И еще осталось чувство вины перед Веронкой: ведь на глазах у нее, дочери, жил он с грубой неряшливой женщиной, у которой даже редкие ласковые слова были такими же, как ее заношенные и грязные халаты; и она, мачеха, посмеиваясь, говорила Веронке то, чего родная мать не посмела бы сказать никогда…
В ту пору Веронка полюбила тайны двора и свободу улиц — и стала презирать замкнутое пространство квартиры. «Вы такие! — насмешливо-вопрошающе смотрела она на отца и мачеху. — Живете себе. А я — на волю! На свежий воздух…» Не закончив школу, она в шестнадцать лет вышла замуж за бродячего по существу саксофониста, игравшего в ресторанных оркестрах, и таскалась за ним по разным городам и городкам, иногда лишь наведываясь к отцу, и он с тоскливой жалостью видел бездумную пустоту ее усталых, лишенных прежней живости глаз, которые теперь вспыхивали синим пламенем только изредка — при виде денег, что он ей давал. Иногда она со своим мужем жила в их квартире подолгу, и ее импульсивной энергии хватало лишь на час-другой: вытащит из чулана пылесос, замочит в тазу белье… и потом пылесос стоит забытым посреди комнаты, белье будет киснуть в мыльной воде и неделю, и другую. А она уже платье себе шьет, хотя два недошитых валяются на стуле, и этому, вновь начатому, тоже суждено остаться или без одного рукава, или еще без чего-то. И пепел, сигаретный пепел повсюду — на полу, подоконниках, в немытых тарелках, цветочных горшках, возле унитаза, меж книжных страниц… Даже в хлебнице, красиво сделанной им в форме сказочного дворца, был этот несносный пепел. А бледнолицый саксофонист, когда бывал дома, молча, прямо сидел строго одетый на кухне — в черном костюме, с черной «бабочкой» под воротником неизвестно кем стираемой белой рубахи, — и часами отрешенно смотрел в окно. «Да», «нет», «благодарю» — вот все слова, которые Здислав слышал от него.
Такое жуткое чувство потом было у Здислава, что он вынужденно держал на своей кухне демона, от демона слышал вежливо-безучастные «да» и «нет». Но это уже потом, потом, когда бледнолицый саксофонист в черном костюме вдруг оставил его дочь, навсегда исчез, растворился во влажных сумерках мартовской Варшавы и Веронка в истерике кричала, что муж давно и страстно любил какого-то парня, ударника из оркестра, и тот, негодяй, сволочь, наконец позвал его к себе, они улетели… У Здислава, отнимавшего у Веронки намертво зажатый ее пальцами нож, ладони саднили от порезов, и будто обручи мучительно, со скрежетом сползали с его чудовищно вспухающей головы: вот-вот она должна была взорваться, как фугас. Жуть же, жуть! Полюбил парня… улетели… Что за птицы такие? Что за птицы, мать вашу!.. Что за жизнь такая, так бы ее и так… Одни летают, другим хлеб нужен. Демоны и люди? Может, и кровь у них, летунов, не такая, как эта вот, на его ладонях, красная, липкая, жгучая; может, какая-нибудь зеленая она у них, голубая? И хлеб им не нужен? Сидел же тот днями на кухне, в окно вперившись, и ничего не ел… Не жрал, сукин сын, дожидался чего-то. Весны? Взял и улетел…
По осени Веронка опять вышла замуж — за авиационного техника, по-деревенски прижимистого парня, который сурово копил деньги на оборудование для механической мастерской, хотел иметь свое дело, свой собственный ангар по техобслуживанию автомобилей, но через полгода семейной жизни он был раздавлен колесами совершавшего посадку самолета. Там, в авиагородке, дочь быстро нашла себе утешение в лице молоденького кареглазого штурмана Марека, с которым в свободное от его службы время они носились как сумасшедшие на мотоцикле: сегодня туда, завтра сюда, послезавтра еще куда-нибудь, где пока не были. При этих головокружительных скоростях и виражах, под оглушительный треск измученного мотоциклетного двигателя и был, скорее всего, второпях, меж безвестными пунктами А и Б, зачат их сынок Юрек, его, Здислава, внук, потому что родился он весом и росточком с котенка и очень неспокойным: как заплакал при появлении на свет, так и продолжал нескончаемо плакать часами, а то и днями до полного изнеможения и посинения. Штурман Марек, взиравший на сына Юрека с жалостливым недоумением не подготовленного к житейским испытаниям акселерата, стал подолгу задерживаться на аэродроме, просился теперь в полеты даже не на свои рейсы, из разных городов слал трогательные телеграммы и красивые открытки с нарисованными фломастером на обороте двумя пунцовыми сердечками, соединенными мотоциклетным рулем с фарой, — и в годовщину рождения Юрека он был застрелен пытавшимися захватить авиалайнер террористами.
Не везло Веронке?
Ах, если бы так, просто так… Не набожный, с огрубелым сердцем и таким же взглядом на мир пробавляющегося трудом своих мозолистых рук человека Здислав вдруг (а может, не вдруг — с похорон Марии?) поверил, однако, в с у д ь б у. В то, что в жизни каждого человека есть своя жестокая предначертанность, кому что заранее определено — тот свое получит. Кем предначертано, определено? Неважно. На линиях человеческих передвижений в мировом пространстве у каждого свои роковые узлы пересечения этих линий, и ты слепо, подчиняясь заложенному в тебе «магнетизму», в непреодолимой «магнетической» власти непременно в положенный срок выходишь на свой узел… Недаром же он в сорок пятом в нагромождениях тяжелых камней разрушенной Варшавы вышел на Марию, а она — на него. Они вышли друг на друга — и встретились. Не судьба? А тот самый подпоручник Вавжкевич, ихний — на полтора месяца всего — взводный? Полку дали недельный отдых, они после боев спали до одури среди цветущих яблонь, розовые и белые лепестки сыпались с деревьев на их вывешенные для просушки портянки и кальсоны, от кухни исходил густой дух переваренного мяса, был рай вдали от адового пекла, и только он, новый их взводный, бродил с потерянным лицом конченного для этой жизни человека. «Подсядьте к нам, пан подпоручник», — пригласил его к своему кусточку Здислав, где расположился он с двумя товарищами перед котелком со спиртом, добытым на освобожденной станции у железнодорожников путем сложной системы обмена: вы нам, мы что-то вам. Подпоручник, обведя их мутными глазами, вяло сказал: «Запрещено, знаете ж», — и пнул котелок носком сапога. Пока они, потеряв дар речи, обалдело смотрели на то, как земля темнела, неохотно впитывая совершенно ненужную ей жгучую жидкость, — взводный так же вяло проронил: «Убьют меня, ребята, я чую…» Уже в спину ему капрал Шарлинский бешено заорал: «И правильно сделают! Чтоб такое говно не воняло во взводе!..» Подпоручник даже не оглянулся, а к вечеру другой подпоручник, из автороты, проверяя отремонтированный «дегтярь» — ручной русский пулемет на сошках — полоснул очередью по-над берегом реки и точно угодил в затылок пребывавшему в одиночестве у воды, за камышовой гривкой, саперному взводному Вавжкевичу… Чего тот ожидал, что ему предназначалось — получил, можно сказать, по расписанию. Это как?
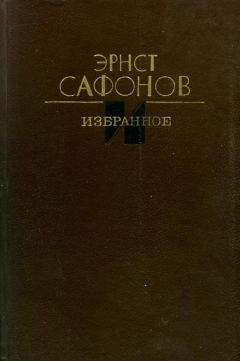


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

