Не везло Веронке?
Ах, если бы так, просто так… Не набожный, с огрубелым сердцем и таким же взглядом на мир пробавляющегося трудом своих мозолистых рук человека Здислав вдруг (а может, не вдруг — с похорон Марии?) поверил, однако, в с у д ь б у. В то, что в жизни каждого человека есть своя жестокая предначертанность, кому что заранее определено — тот свое получит. Кем предначертано, определено? Неважно. На линиях человеческих передвижений в мировом пространстве у каждого свои роковые узлы пересечения этих линий, и ты слепо, подчиняясь заложенному в тебе «магнетизму», в непреодолимой «магнетической» власти непременно в положенный срок выходишь на свой узел… Недаром же он в сорок пятом в нагромождениях тяжелых камней разрушенной Варшавы вышел на Марию, а она — на него. Они вышли друг на друга — и встретились. Не судьба? А тот самый подпоручник Вавжкевич, ихний — на полтора месяца всего — взводный? Полку дали недельный отдых, они после боев спали до одури среди цветущих яблонь, розовые и белые лепестки сыпались с деревьев на их вывешенные для просушки портянки и кальсоны, от кухни исходил густой дух переваренного мяса, был рай вдали от адового пекла, и только он, новый их взводный, бродил с потерянным лицом конченного для этой жизни человека. «Подсядьте к нам, пан подпоручник», — пригласил его к своему кусточку Здислав, где расположился он с двумя товарищами перед котелком со спиртом, добытым на освобожденной станции у железнодорожников путем сложной системы обмена: вы нам, мы что-то вам. Подпоручник, обведя их мутными глазами, вяло сказал: «Запрещено, знаете ж», — и пнул котелок носком сапога. Пока они, потеряв дар речи, обалдело смотрели на то, как земля темнела, неохотно впитывая совершенно ненужную ей жгучую жидкость, — взводный так же вяло проронил: «Убьют меня, ребята, я чую…» Уже в спину ему капрал Шарлинский бешено заорал: «И правильно сделают! Чтоб такое говно не воняло во взводе!..» Подпоручник даже не оглянулся, а к вечеру другой подпоручник, из автороты, проверяя отремонтированный «дегтярь» — ручной русский пулемет на сошках — полоснул очередью по-над берегом реки и точно угодил в затылок пребывавшему в одиночестве у воды, за камышовой гривкой, саперному взводному Вавжкевичу… Чего тот ожидал, что ему предназначалось — получил, можно сказать, по расписанию. Это как?
«Так, так, — убеждал себя Здислав, — все рассчитано в мире: как колосу вызреть, а девушке девушкой родиться, где жабам жить, а где — в поднебесье — жаворонкам петь, и свое точное астрономическое кружение у разных околоземных планет. И человек — сам по себе планета! Модель ее! Запущен на предназначенную ему орбиту…» Эти, подобного свойства, рассуждения увлекали Здислава, и пугался он их: смотри-ка, не искушен в грамоте, далек от ученых занятий, лишь газеты исправно читает, да ведь их многие читают, а начнет он думать — не хуже иного профессора, в самые тайные глубины мироздания умом проникает. Тоже, как не всякому, от природы ему дано? Тоже свое, даровано судьбой? А мысль в такие минуты, вдохновенно раскручиваясь, уводила его дальше, дальше. Если, допустим, каждый человек — особая недолговечная планета (есть вечные — должны же тогда быть и кратковременные!)… то, следовательно, по научным законам одна планета (человек) зависит от другой планеты (человека), воздействует на нее излучением энергии или, если они взаимоисключающие («плюс» на «минус»!), то отталкиваются; а когда одна намного сильнее но заряду энергии, она вообще притягивает другую на свою орбиту, подчиняет, держит в пространстве своего влияния, технически управляет ее движением и, обманчиво опустив на каком-либо витке, снова затем круто вводит в свою сферу…
Особенно в предутренние часы, когда сон уходил, а подниматься с постели было рано и еще явственнее в затаившейся тишине и зыбкости рассвета ощущалось одиночество, набегали к Здиславу, влекли к себе такие мысли, сиюсекундная отчетливость и кажущаяся бесспорность которых с наступлением дня, началом обыкновенных дневных забот тускнела, правда, мельчала, терялась, но вера в судьбу уже стойко трансформировалась в убеждение. И когда на газетных снимках Здислав увидел двоих убитых в перестрелке с аэродромной охраной тех самых, не известных никому террористов, что хотели захватить самолет, которые первыми выстрелами сразили вставшего на их пути штурмана Марека, — он почувствовал стылую тяжесть в груди: от зарождения страха. В распростертой на бетонной плоскости фигуре одного из них, в раскроенном автоматной очередью б ы в ш е м лице он сразу же признал знакомые черты-очертания своего недавнего зятя-саксофониста. Не мог спутать, ошибиться, нет! Т о т у л е т е л… а значит — л е т а л, к р у ж и л вблизи Веронки, на одних и тех же пересекающихся орбитах, пока смертельно не ударились они друг о друга — прежний и новый, тот д е м о н и кареглазый Марек.
Здислав поспешил выбросить газеты, чтобы приехавшая к нему с Юреком овдовевшая дочь не увидела тех снимков, но Веронка, у которой в сухих глазах скопилось ожесточение, с презрительной усмешкой, будто прочитав его отцовские опасливые мысли, сказала: «Кончай, папочка, изображать чего-то… Знаю я. Э т о о н».
Нет, нет, нет… Не уйти, даже если захочешь, не уйти от того, что предрасположено, загодя привязано к тебе, становится сопровождающей тебя тенью. Не было до определенного момента, не возникал он, «пришелец», а потом — тут он, властно, прилипчиво, он уже твоя тень, и такая причем тень, что на роковом пересечении, однажды оторвавшись, забежит поперед, потянет за собой — и шагнешь за ним в черную бездну… Уже сколько лет должно было пройти, уже Здиславу будет пятьдесят пять, уже вырастит он Юрека, тот парнем станет, начнет работать на заводе, и в их доме появится всегда расхристанно одетый длинноволосый молодой человек по кличке Студент (все его только так и звали: «Студент… Студент!») — и Здислав, пугаясь, поймет, что он явился по Юрекову душу, он тоже т е н ь, надо ждать беды. И когда однажды Студент отбросит закрывавшие лоб и щеки густые волосы — Здислав замрет, пораженный: это же Ендрек, это же одно лицо! Ендрек, который в сорок пятом украл у него в ночном вагоне сапоги и мешок… Печальный взгляд библейских, словно с иконы, глаз, готовность услужить, пожертвовать собой, лишь бы остаться рядом, лишь бы не оттолкнули. Он, он! Здислав, перебарывая волнение, спросил как можно проще, естественнее: «Скажите, пан Студент, вашего отца, случаем, не Анджеем[51] звали?» Студент, дернув головой, снова прикрывшись волосами, резко ответит: «А для чего, собственно, как звали? Я не помню, нет… Ерунда какая!»
Почти одновременно со Студентом станет приходить к Юреку другой парень, лет двадцати, коренастый, с тупым подбородком, короткой шеей, по прозвищу Кусок, и хотя прозвище могло обижать, он не обижался, охотно откликаясь на него. И Юрека они редко звали по имени, а чаще всего — Шуруп. «Слушай, Шуруп… До завтра, Шуруп!» Здислава это бесило, но Юрек успокаивал: «Не возникай, дедуля, все нормально. Так у нас принято». Он кричал: «У кого принято? Вы что — урки?» Внук целовал его в плечо: «Береги нервишки, дедуля, они у тебя подрасстроены в боях за социализм. У нас, говорю, молодых, принято. Нам так нравится…» И казалось Здиславу, что Кусок — с его физиономией боксера, мутноватой пеленой на сонных глазах — сильно смахивает на случайно застреленного взводного Вавжкевича; но эту догадку он прогнал от себя, задавил, не дав ей развиться: так и свихнуться недолго, если в каждом находить к о г о-т о…
Однако это все будет значительно позже, и отсчет новых событий надо, пожалуй, начинать с того дня, когда появилась у него вторично овдовевшая дочь с годовалым Юреком и произнесла она те самые слова: «Кончай, папочка, изображать чего-то…» А он разве «изображал»? Он жалел ее. И тогда продолжал жалеть, когда она в том же году, спустя месяцы, выйдя из отрешенного оцепенения, тщательно умывшись и причесавшись, сунула ему Юрека на колени — и покинула квартиру. Сначала на неделю, затем на месяц, на полгода, и неожиданно получит он от нее записочку из ФРГ: я, папочка, замужем за мукомолом, счастлива, надеюсь, что вам с Юреком не будет скучно. Внизу желтые кляксочки на розовой почтовой бумаге были обведены шариковой ручкой — и следовало объяснение: «Это мои слезы». Вскоре он получит еще одну открытку, к рождеству, через год-полтора придут две другие, как и предыдущие — без обратного адреса, подобные тем, что когда-то слал ей самой из далеких городов штурман Марек; а затем, через годы, прилетит телеграмма из Суринама: «Я люблю вас» — и после нее ничего никогда больше. Веронка исчезла.
Здислав купил географический справочник, и та страница, на которой было про Суринам, быстро залоснилась от его тяжелых ладоней. Он тыкал пальцем в кружочки городов на карте Суринама, и одно их звучание — Коттика, Парамарибо, Корони, Ньив-Никкори — уже как бы исключало всякую грубость и насилие, а тем самым успокаивало его отцовское сердце. «Здесь, в южноамериканском государстве на берегу Атлантического океана, — читал он в справочнике, — преобладают индийцы и креолы, живут также индейцы, индонезийцы, негры, европейцы, китайцы и др.». Он размышлял, что индийцы — народ миролюбивый, креолы, наверно, веселые ребята, и девушки любят танцевать, китайцы трудолюбивы, индийцы никогда не позарятся на чужое, среди негров, правда, всякие встречаются, как и среди европейцев, и разве под раскидистыми пальмами, под ослепительным солнцем не найдется тихого места его странствующей дочери? Может, именно на краю земли набредет она наконец на свое счастье? Одна ли там, с немцем-мукомолом? Одна, скорее всего, одна… Наверно, все хорошо у нее, хорошо…
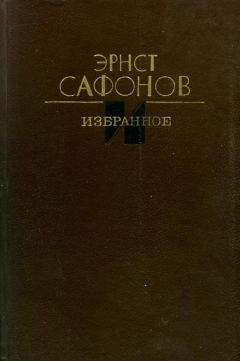


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

