— Дуся, милая… Дети, школа — не то, совсем не то… Я пришел, чтобы сказать тебе другое. Через час я уеду, буду писать тебе письма…
Она отняла руки, выпрямилась и так отчужденно посмотрела, точно впервые увидела Семена рядом с собой.
— Зачем писать?
— Ты станешь мне отвечать… Мы будем переписываться.
— Ни к чему… Не нужно.
— Неужели, Дуся, все кончится между нами?
— А что кончится? Ничего еще не начиналось.
— Как же не начиналось?.. Вчера мы были вместе. И ночеванье, и вообще наше знакомство… И что мы целовались… Разве все это можно бросить и забыть?
— А! Вот ты о чем. — Дуся через силу усмехнулась. — Ночеванье — это пустое. Обычай, что тут такого! — Наклонила голову, смотрела на воду. — А то, что поцеловались, пусть останется тебе и мне на память.
— Это хорошо — на память… Дуся, я тебя не забуду.
— Как знаешь, мне-то что…
— Но я же тебя люблю, Дуся…
— Не надо, Сеня… Так все говорят… Зачем же ты?
— Если люблю! Не веришь?
— Не хочу верить… Ты уедешь.
— Буду писать, книжки присылать… После учебы вернусь в Трактовую…
— Уезжай, Семен Афанасьевич. — Она строго, как на чужого, посмотрела на него. — У тебя своя дороженька, а у меня своя, и никогда им, видно, не сойтись…
— Нельзя, Дуся, заглядывать наперед, нельзя…
Да, точно, наперед загадывать нельзя. Разве в те далекие девичьи годы могла Дуся подумать, что всю жизнь ей будет суждено любить Семена, и любить тайно от мужа, любить упрятанной от людских глаз любовью… Через много лет, склоняя над кубанским обрывом седую голову и думая о своей сокровенной тайне — о том, что Илья и Елизавета — дети не Ивана, а Семена, — она ни в чем себя не упрекнула, не покаялась. И, может быть, еще больше, чем когда-либо, именно теперь радовалась, что Семен все эти годы жил в ее сердце и остался в нем навеки….
Мысленно Евдокия Ильинична находилась все еще в Трактовой. Семен стоял перед ее затуманенными очами, а река, на которую она смотрела, сделалась отчего-то светлее, берега рисовались четче, и вода почему-то вдруг побелела. В том месте, где бугрились бурунья, на быстрине от берега к берегу протянулся лунный кушак. Видимо, так одолели думки, так обступили со всех сторон, что она не заметила, как на той стороне Кубани, над сизым, в дымке, холмом повис надломленный месяц. Половинка его была похожа на обрубок жести, только что выхваченный из полымя. Своим желтым глазом месяц поглядывал на реку, видел, как вблизи Трактовой от берега отчалила плоскодонная, похожая на корыто лодчонка, выскочила на стремнину бурлящей реки и понеслась, полетела по течению.
Сидя на круче, Евдокия Ильинична не знала, что лодчонка мчалась сюда, к прискорбненскому берегу, и что плылив ней Хусин и ее дочь Елизавета. Если бы знала мать, разве усидела бы… Хусин стоял, подставив лицо луне и ветру, сбитая на плечи войлочная шляпа держалась на шнурке, а у его ног в белом платье сидела Елизавета — сказочная царевна, да и только! Посмотришь, покачаешь от изумленья головой и промолчишь. А что сказать? Все же знают, что это не Хусин, а настоящий «оторвиголова». До чего же, каналья, смелый, даже не то чтобы смелый, а отчаянный! Ночью в каком-то корыте пуститься по бурлящей реке? Надо же такое придумать и надо же на это решиться! А какой он удивительный наездник, тоже все знают. А какие лихие коленца выкидывает на коне — смотреть страшно. На полном скаку подползает коню под живот или в седле стоит на голове, как свеча. И вот, видимо, мало ему джигитовок, мало горных дорог и долин, так он еще бросился в реку, решил со стихией помериться силой. И для этого оседлал не коня, а лодчонку, и начал гарцевать на ней не один, а с девушкой. И неслась лодчонка быстрее, нежели самый горячий скакун. Елизавета, бедняжка, сидела ни живая ни мертвая, держалась за борта, и ее мокрые пальцы от страха деревенели. Она уже каялась, что согласилась на уговоры Хусина «прокатиться с ветерком». Да тут, оказывается, в лицо бил не ветерок, а настоящий ветер, да еще и с брызгами.
На корме, вытянувшись, стоял, точно, на стременах, Хусин. И орал какую-то черкесскую песню и смеялся раскатисто, громко, точно хотел заглушить шум реки, а шляпа птицей билась за его спиной. В руках у него не пика, не плетка, а тонкое, как шест, весло. Выхватывал из воды весло, и красноватые брызги щедро осыпали лодчонку. Река бурлила, река ревела, злилась, ей не нравилось, что какой-то юноша из аула Псауче Дахе так беспечно смеялся и пел песню. Лодчонка, на которой он стоял, то падала, ныряла, то взлетала над бурунами, будто желала выскочить из воды. Елизавета не могла смотреть ни на Хусина, ни на реку. Закрыла глаза, — доверилась парню. Знала, если что и случится, то Хусин спасет, в беде не оставит. «Не буду смотреть, когда смотришь, то еще страшнее, — думала она. — Мы же плавать умеем, если лодка перевернется, то на берег выберемся… А как интересно! И страшно к интересно…» Кружилась голова, Елизавете казалось, что не вода уносила их, а чьи-то могучие руки легко подняли лодчонку и, играя ею, подбрасывали и ловили, подбрасывали и ловили…
Те же невидимые руки поднесли наших смельчаков к берегу возле хутора Прискорбного. С разбегу лодчонка ткнулась носом в гальку как раз в том месте, где возвышалась круча и сидела, пригорюнившись, Евдокия Ильинична. Она видела и не верила глазам своим, как Хусин, опираясь на весло, прыгнул на берег, а затем помог сойти Елизавете. Вместе они взялись тащить лодку, чтобы ее не унесла река. «Ах ты бусурманяка, погляди, что вытворяет! — думала Евдокия Ильинична. — И чего, скажи, прилепился к девчушке, как репей… На лодке привез ее к самому порогу…» Хусин и Елизавета стояли, взявшись за руки. Девушка думала о том, что Хусину надо бы плыть на ту сторону и уходить домой, а он плыть и не собирался и на мерцавший на той стороне огоньками аул не смотрел. Он смотрел на нее, и Елизавета знала, что Хусин пойдет провожать ее до хаты, а хата вот она, на круче, и они простоят там, как и вчера, до зари. От этих мыслей ей так стало хорошо, что она, сама не зная отчего, рассмеялась. И когда Хусин спросил, что Елизавету рассмешило, она, все еще смеясь, сказала, что в туфлях у нее вода и весь подол мокрый, хоть выжми.
— Не беда, Лиза! — сказал Хусин. — У меня брюки тоже… Глянь, аж повыше колен… Но зато как же здорово мы летели! Ох, и сильно нас бросало!
«Тебе что, тебе лишь бы геройствовать, — думала Евдокия Ильинична. — А ежели девуш-ка простудится, или случись какое несчастье…» Хотела позвать Елизавету, боялась, что при ней молодые люди начнут целоваться, но промолчала. А Елизавета слушала Хусина и смотрела ему в глаза. Его строгий взгляд, его лицо, озаренное слабым светом надломленной луны, было мужественным и красивым. Елизавета хотела сказать: «Да, да, Хусин, бросало нас так здорово, как на качелях». Хусин взял ее за руку, и они начали взбираться на кручу. И когда, запыхавшись, поднялись, увидели мать.
— Ой, мамо! — воскликнула Елизавета. — Это вы? И сидите на берегу?
— Это я и есть. И сижу…
— И чего вы здесь?.. В такую пору?
— Пришла вас повстречать. — Мать грустно усмехнулась. — Ох, дети, дети! И чего пустились вплавь? Или вам уже жизнь надоела? Это же не шуточное дело. Кубань в таком разливе… Хусин, это твоя затея?
— Моя, тетя Голубка, моя…
— А совесть у тебя есть, Хусин?
— Как же без совести? — удивился Хусин. — Есть, тетя Голубка, есть…
— Голова у тебя, Хусин, ухарская, вот что я тебе скажу… Так и погибнуть нетрудно.
— Мамо, и чего вы тревожитесь? — сказала Елизавета. — Мы не маленькие…
Молодые люди рассмеялись, и смех их был такой веселый, будто старая женщина, что так о них тревожится, совсем уже выжила из ума, а они умные, и им ничего не страшно. Смех обидел Евдокию Ильиничну, и она сказала:
— Хватит усмешек, Елизавета! Иди-ка в хату, иди. Вся мокрая, еще простудишься. Да и в школу завтра. — И к Хусину: — А ты, герой, плыви в свой аул… Тоже, наверное, мать ждет и беспокоится… Малость погеройствовал на бурунах, и хватит… Так что…
— Тетя Голубка, я провожу Лизу, — перебил Хусин. — Можно?
— Чего ее провожать? Хата-то ее рядом… В хуторе одиноко и нехотя тявкала собака.
Шумела, билась о берег Кубань. Елизавета наклонила голову, будто прислушиваясь и к шуму, и к собачьему лаю, туфлей ворошила гальку, мокрый подол холодил колени. Хусин понял, что сегодня не суждено ему проводить девушку до порога её дома, покосился на Евдокию Ильиничну. «Эх, мамаша, и откуда ты взялась на мое горе!» Спустился с кручи, начал сдвигать лодчонку. Зря только вытаскивал. Елизавета тоже сбежала к берегу. Хусин подал холодную руку и шепнул, что утром он снова переплывет реку, зайдет к Елизавете, и они вместе пойдут в школу. Попрощался с Евдокией Ильиничной, с Елизаветой, взял весло и прыгнул в лодку. Сразу выскочил на быстрину и закружился, будто затанцевал. Течение уносило его наискось. Когда Хусин, белея шляпой, вышел на тот берег и направился в аул, мать и дочь входили в хату…Елизавета лежала в постели с закрытыми глазами. Виделась ей бурлящая река, лодка и белая шляпа Хусина. Она слышала, как мать осторожно присела на кровать. Наверное, что-то скажет, так, зря не присела бы. Или станет ругать, поучать — все матери это делают. Сидела и молчала. Знала, что дочь еще не спала, а молчала…
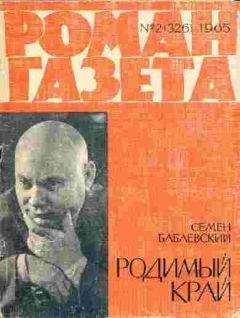
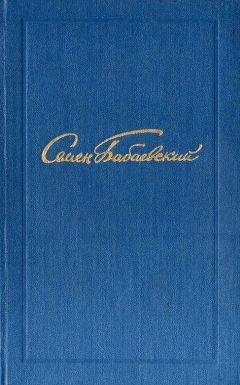
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)


