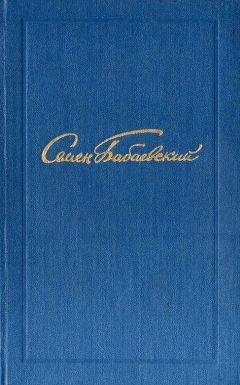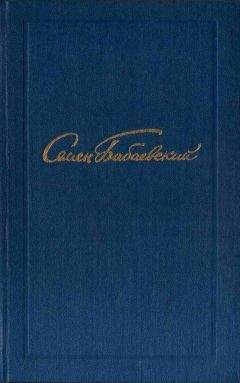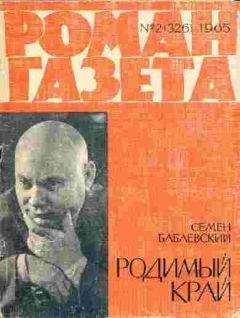— Его тоже можно понять, — сказал Николай.
Домой Аниса забежала на минутку. Ее мать, Дарья Васильевна, уже повязывала косынку, собираясь уходить в пансионат, где она работала поварихой.
— Мамо, накормите меня! Я проголодалась. А в пансионат пойдем вместе.
— Что-то ты, доню, редко бываешь у нас, — сказала мать. — Мотаешься по полям да по заседаниям, поесть тебе некогда. Но чем же, сердешную, накормить? Хочешь, поджарю яичницу в сметане?
— Только побыстрее!
Еще в то время, когда Дарья стряпала в пятой бригаде, она снискала у колхозников любовь и уважение. И вы думаете чем? Вкусными обедами! «Золотые руки у этой украинки, — говорили о ней. — Продукты получает обычные, какие выдаются во все бригады, а кушанья у тети Даши такие, что пальчики оближешь». Мужчины добавляли: «Что и говорить, во всех смыслах аппетитная стряпуха!» И при этом на лицах у них цвела понимающая улыбочка.
Особенно людям нравились блюда ее собственного изобретения, например кубанско-украинский борщ со свежими помидорами, с мелко нарезанной капустой и бурачком, заправленный сладким перцем и поджаренным салом, Тетя Даша так умела заправить его не лавровым листом — нет, а какими-то душистыми травами, что обыкновенный борщ становился необыкновенным и съедался подчистую. А что за чудо был фаршированный перец! В крупные, мясистые стручки, срезанные у хвостика, тетя Даша набивала, как в папахи, такую начинку из фарша и риса, что она, покипев в томатном соке, уже сама таяла во рту. А о голубцах и говорить нечего! Спеленав их капустным листом, тетя Даша клала голубцы в чугунок, заливала томатным соком со сметаной и с сахаром, чуточку припорошив молотым перцем. На стол голубцы подавались слегка подрумяненные. А если сказать еще о «катушках»… Нет, говорить о них просто невозможно, потому что нет у человека таких слов, чтобы описать их: не «катушки» — объедение!
Если Николай Застрожный бывал в поле с приезжим из района или из края гостем обычно в тот час, когда солнце поднималось к зениту, он смотрел в небо и говорил: «Пора, пожалуй, ехать в пятую. Проголодались изрядно, а лучше тети Даши нас никто никогда не накормит».
И это была правда.
В пансионат Дарью Васильевну перевели по настоянию Николая Застрожного. Вопрос этот решался на заседании правления.
«Воруете у меня золотую повариху, — диковато насупив широкие брови, сказал Анисим Ильич Коновалов, бригадир пятой бригады. — Как же мы теперь?»
«Не воруем, Анисим Ильич, а переводим, — ответил Застрожный. — Ввиду крайней необходимости».
«Или в бригаде уже не люди?» — стоял на своем Коновалов.
«Разумеется, в твоей бригаде тоже люди, и отличная пища для них имеет важное значение, — рассудительно возражал Застрожный. — Но пойми, дорогой Анисим Ильич: в пансионате, где проживает цвет «Эльбруса», люди престарелые и заслуженные, нам нужно иметь настоящего мастера вкусной и здоровой пищи. Я подчеркиваю — здоровой пищи! А Дарья Васильевна именно таким мастером и является… Да ты сядь, чего маячишь столбом? Не хмурься и не кляни меня в душе. Подберем тебе другую стряпуху. Пойми, Коновалов: правление обязано проявлять энергичную заботу о нашем пансионате, так как там проживает цвет «Эльбруса». Как известно, люди там престарелые, им надобно приготовлять пищу особенную не только в смысле вкуса и калорийности, а и в смысле ее, как бы это сказать, диетичности. Работенка не из легких, и по плечу она только Дарье Васильевне. Поэтому правление единодушно решает: назначить Дарью Васильевну Ковальчук поваром пансионата».
Позавтракав, Аниса сказала матери, что бабка Воскобойникова якобы уезжает в гости к сестре и хорошо бы, если бы на это время она освободила свою комнату. В ответ Дарья покачала головой, усмехнулась:
— Для возвращенца стараешься? Ничего у тебя, доню, не получится. Воскобойниха не пожелает разорять свое гнездо, — уверенно заявила Дарья. — Одно то, что у нее не комнатушка, а картинка. И чисто, и уютно. Кровать застелена цветным, покрывалом, на подушке — кружевная накидка. Воскобойниха сама вязала. Над кроватью — коврик с синим озером и плавающими лебедями. Над всем озером развешаны ее ордена и медали. Точно иконостас. Как же все это разорять? А другое то, что как же можно класть на ее постель да еще и под награды чужестранного человека? Подумала ты об этом, доню?
— Это же, мамо, временно. Ордена и медали тоже на время уберем.
— Все одно Воскобойниху не уговоришь. К тому же в воскресенье у нее вечер воспоминаний. Так что уезжать из станицы она не собирается.
— Что это за вечера воспоминаний?
— Старым людям бывает скучно. Вот они и устраивают между собой беседы о прошедшем времени.
— Скучно? А телевизор?
— Не по ихним глазам. А еще бывают вечера песен. Ты бы послушала, доню, как они поют! Заслушаешься!
— А что Селиверстов?
— Поощряет. Говорит, что получил указание от самого Щедрова — ничему не перечить.
— Когда же Щедров давал такое указание?
— Должно быть, когда навещал пансионат. А Селиверстов сам тоже песельник, да еще какой! — Дарья улыбнулась, видимо представив себе, как поет Селиверстов. — Голос у него басовитый. А подыгрывает на гармони дед Семен. Уже в годах, пальцы заскорузлые, а по клавишам бегают проворно.
— Как же они проходят, эти вечера?
— Обыкновенно. Сперва, для запева, кто-то начинает вспоминать, как жил, где бывал, что делал. Ему подсобляют другие. В прошедшее воскресенье про свою жизнь поведал кузнец Аким Нестеренко. Такой из себя высокий и жилистый. Где он только не побывал за свою жизнь — и на гражданке и в партизанах. На войне кузнечное дело ему пригодилось: подковывал лошадей и на колеса натягивал шины — словом, кузнец. Рассказал, как он подковал одного фрица, — смех! Хорошо тогда побеседовали. А в нынешнее воскресенье послушаем бабку Воскобойниху. Она же два раза в Москве бывала. В Ленинград тоже ездила. Бедовая старуха!
— Кто же приходит на вечера?
— Только свои.
— А мне можно? От парткома?
— А чего же? Приходи. Интересные бывают разговоры.
«Вот оно, оказывается, что. Бабка Воскобойникова готовится к вечеру воспоминаний, а я полагала, что она поедет в гости к сестре, — думала Аниса, направляясь в пансионат. — И что это за вечера воспоминаний и вечера песен? Я ничего об этом не знаю. Телевизор не смотрят. Свои у них интересы, свой гармонист, свои песни и свои рассказчики. И нет им никакого дела до того, что какой-то Евсей Застрожный возвращается в Вишняковскую, а жить ему негде…»
Одноэтажное кирпичное здание пансионата стояло на высокой кубанской круче и внешним своим видом, особенно если смотреть сверху, походило на печатную букву Е. Три зубца этой буквы были обращены во двор, так что три входные двери с поднятыми ладонями-козырьками смотрели на улицу. От дверей вели вымощенные кирпичом дорожки. Тут же стояли невысокие, удобные для отдыха скамейки. Перед окнами росли сирень и жасмин. К шиферной крыше тянулись молодые каштаны.
Главная стена своими широкими окнами была обращена к Кубани. Видимо, архитектор был с душой поэта, потому что, планируя дом, позаботился, чтобы те, кто в нем будет жить, могли из своих комнат любоваться живописным и любимым с детства пейзажем. Хорошо были видны и низкие, укрытые вербами берега, и сверкающая даль переката, и темный лес вдали, и песчаные отмели — словно разбросанные лоскуты мокрого картона. Под кручей лежала обширная пойма, вся засаженная овощами. Капустный лист отливал сизой сталью, картошка уже отцвела и темнела высокими, пышными кустами. В стороне стояла насосная станция, и серебрились, убегая от нее, стежки-ручейки.
В левом крыле здания разместились кухня и столовая, светлая и просторная, с окнами от пола до потолка, и тоже с видом на Кубань. В столовую можно было пройти не только по коридору, а и со двора. В среднем крыле находилась гостиная с диванами и креслами, со столиками для газет и шкафом для книг. На самом почетном месте стояли телевизор и радиоприемник. Архитектор позаботился и о таких бытовых удобствах, каких раньше в Вишняковской вообще не было: каждые две комнаты соединялись небольшой прихожей, из которой вправо и влево двери вели в жилые комнаты, а прямо — в общий для обоих жильцов умывальник с горячей и холодной водой, душ и теплый туалет.
Было позднее июльское утро. Солнце поднялось выше самых рослых тополей. Возле козырьков, что возвышались над дверями, укоротились тени. На скамейках, в холодке, сидели пожилые мужчины и женщины. Вокруг царила такая тишина, какая бывает разве только в сосновом бору, когда и деревья, и травы, и все живое, изнывая от жары, не шелохнется. И то, что эти пожившие и всего на своем веку повидавшие люди жили в такой тиши, что они не просто сидели от нечего делать на удобных скамейках, а отдыхали, и отдыхали с каким-то необыкновенным удовольствием, как бы говорило, что жить здесь и наслаждаться покоем могут только те, кто за долгие годы вволю потрудился и теперь уже свободен от житейских обязанностей и хлопот. На них была специально сшитая одежда. На женщинах длинные, с оборками снизу юбки, кофточки с закрытыми воротничками, белые, с каймой косынки. На мужчинах штаны, вобранные в шерстяные чулки, рубашки подхвачены на казачий манер тонкими наборными поясками. Белые головы прикрыты соломенными брылями и картузами. Только один старик подставил солнцу свою чуприну, давно уже ставшую и мягкой, как заячий пух, и совершенно белой, как стерильная вата. Это был гармонист дед Семен. На его личике с выцветшими, как застиранный ситчик, глазами неурожайным просом кустилась белесая бородка. Смолоду он был бугаятником. Когда бугаи стояли в закутах-станках, Семен играл им на гармошке вальс «Амурские волны». Мордастые красавцы с короткими рогами и с кольцами в розовых ноздрях слушали, прикрыв от удовольствия глаза. «Ах, стервецы, как любят вальс! — восторгался Семен. — Ежели заиграю, к примеру, полечку или краковяк, хмурятся, не нравится, а вальс им по душе…» Руки у бывшего бугаятника короткие, слегка согнутые в локтях, не верится, что это руки гармониста.