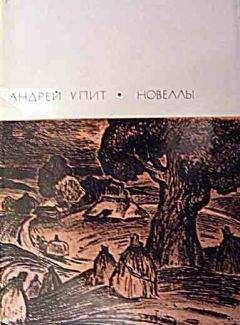Грюнтальский пастор строго придерживался разработанного им церемониала, который несколько отличался от рингсдорфского. Пока звонил кладбищенский колокол, он молча стоял со сложенными руками и опущенной головой и глядел в открытую могилу. Все, конечно, делали то же самое. Пастор Краузе был убежден, что минута всеобщего молчания под звуки колокола лучше всего наводит на размышления о тайне смерти и настраивает на печально-торжественный лад.
Под открытым небом голос его в самом деле казался слабоватым. Бархатные нотки, когда их не усиливали церковные своды, не производили должного впечатления. За спиной больше не было окон алтаря с цветными стеклами витражей, и он ясно почувствовал, что фигура его здесь не кажется столь внушительной.
Надгробное слово он дважды перечитал утром и знал почти наизусть.
Он начал с популярной притчи о двух странниках, которые случайно встречаются и идут вместе к одной цели. И так как слушатели его были горцы, он красочно изобразил стезю и местность, по которой шли странники, пользуясь при этом главным образом описаниями природы из прочитанных в гимназические годы сочинений Шиллера и Розеггера. Ведя путников по всевозможным извилистым тропам, через бесчисленные испытания, он заставил одного из них постепенно утомиться, замедлить шаг и, наконец, в изнеможении свалиться в горную пропасть.
Он сам спохватился, что притча построена неудачно. Она скорее подходила для похорон погибшего от несчастного случая, а не умершего естественной смертью. К тому же она сильно противоречила давешнему примеру с васильками и сенокосом. Как это ему раньше не пришло в голову!
Пастор Краузе был очень недоволен началом надгробного слова, поэтому поспешил перейти к несчастному, одинокому путнику, который остается один на крутой горной тропе, куда еще доносятся из пропасти стоны погибшего спутника.
После этого он опять сделал небольшую паузу, чтобы кинуть взгляд на скорбящего собрата. Солнце било ему прямо в глаза, поэтому он сначала ничего не мог разглядеть. Потом заметил, что Фогеля уже нет на прежнем месте, а затем… затем он невольно широко раскрыл глаза.
Рингсдорфский пастор, отойдя от могилы, преспокойно сидел на одной из гранитных тумб, между которыми висела цепь, огораживающая могилу мельника Хагена. Руки Фогеля лежали на коленях, подбородок он выставил вперед и, не отрываясь, смотрел на оратора.
Пастор Краузе увидел вокруг удивленные лица прихожан. Ведь подобное поведение во время погребальной церемонии не вязалось ни с какими обычаями. Вот если бы он рухнул наземь у могилы, тогда двое мужчин подняли бы его и поддержали. Если бы он закрыл лицо руками, вздрагивая от нестерпимого горя, тогда женщины стали бы успокаивать его и утешать. Но он просто сидел и смотрел, словно не имел никакого отношения ко всему происходящему. Будто безучастный наблюдатель или случайный прохожий…
Краузе ужасно рассердился на него. Так испортить все впечатление от торжественного слова! Грюнтальский пастор был здесь в гостях и, разумеется, хотел оставить по себе добрую память. В конце концов поведение коллеги было даже несколько неприличным.
Пастор Краузе повернулся направо, где столпилась большая часть прихожан, и продолжал свое слово.
О семейной жизни рингсдорфского пастора и его покойной супруги он рассказывал так, словно рингсдорфцы ничего о ней не знали. Однако всем известные случаи он сумел разукрасить такими подробностями, что людям и в самом деле казалось, будто они слышат об этом впервые.
Он отлично видел, что все женщины — и старые, и молодые, и справа, и слева, и спереди — с удовольствием на него смотрели. Это тоже вдохновило его. Надгробное слово начинало ему нравиться, а это было самое главное. Он снова пустил в ход руки, жестикуляцию, мимику, одолевая с их помощью слабые места своего слова. Он то низко опускал голову, то стремительно вскидывал ее. Склонялся над могилой и опять выпрямлялся во весь рост, а иногда даже вставал на цыпочки. Выпрямляясь и воздевая руки, он возвышал голос, а когда они опять опускались, мягкий баритон пастора тоже, как по ступенькам, спускался все ниже и ниже, так что наконец слышалось только нечто вроде невнятного жужжания шмеля, который кружится над белым цветком клевера.
Указав на суетность мирской жизни, на ничтожество земной любви и страданий по сравнению с теми радостями, которые ожидают нас в небесных чертогах, он обратился к теме, на которую навела его фрау Корст и которую он обдумывал и сам.
— Усердная молитва — самая надежная опора в любом горе. Дни и недели минуют, но он один пребудет с нами во веки веков. Жизнь человеческая быстротечна, подобно жизни лепестка или росинки. Человек покидает нас, дабы мы остались одни и в муках одиночества очистились от всякой скверны. Дабы мы пробудились от заблуждений просветленными, обогащенными, освященными страданиями, дабы мы приблизились к господу и были готовы к тому часу, когда он призовет нас к себе.
Слезы стояли в глазах пастора Краузе, когда он кончил. Но эти слезы были ему приятны. Он знал, что говорил хорошо, и еще минуту постоял со сложенными руками и склоненной головой, чтобы дать последним словам как следует проникнуть в сердца и чтобы прихожане могли еще полюбоваться на него самого.
Воспитанницы покойницы пришли проводить свою учительницу. Сбившись в белую стайку, они, словно пташки, тоненькими голосками, часто ошибаясь, спели «Покойся мирно…». Это было до того умилительно и трогательно, что всплакнули даже ко всему привычные старухи, не пропускавшие ни одних похорон в радиусе двадцати километров. И из мужчин кое-кто провел шапкой по глазам.
Грюнтальский пастор подошел к своему коллеге выразить свое соболезнование и пожать руку. Фогель наконец встал с гранитной тумбы, и Краузе заметил, что глаза вдовца следили за ним, пока он обходил могильный холмик и пробирался сквозь толпу прихожан. Когда он уже пожимал ему руку, пастор Фогель все еще не сводил с него глаз, и трудно было понять, хочет ли он о чем-то спросить или что-то возразить. Нехорошие были у него глаза. Глубоко ушли они в черные впадины и как-то уж очень блестели, отражая то невыносимую муку, то какую-то странную усмешку.
Только благодушное настроение после удачного слова не позволяло пастору Краузе рассердиться по-настоящему. Он повернулся к двум знакомым крестьянам, которые, видимо, хотели с ним поговорить.
Один из них, бородач, пожал ему руку.
— Спасибо вам, господин пастор, спасибо! Великолепная проповедь!
Грюнтальский пастор махнул рукой.
— Ну, что вы! Рингсдорфский пастор говорит проповеди лучше.
— Наш пастор тоже хорошо говорит. Мы им довольны. Только иной раз он заводит речь о каких-то непонятных нам вещах. И потом, он чересчур уж редко поминает имя господне. Нам больше нравится, как вы.
Другой, усач, подхватил громовым голосом прусского фельдфебеля:
— Совершенно верно! Грюнтальский пастор говорит точь-в-точь, как наш прежний пастор.
Пастору Краузе некогда было сообразить, следует ли ему радоваться сравнению с прежним пастором или наоборот. За спиной у него обменивались впечатлениями женщины.
— Видели, милая фрау Кетлер? Ни одной слезинки не уронил.
— Да, да, милая фрау Лангшток! У него каменное сердце. Да еще уселся на тумбу перед могилой господина Хагена! На что это похоже!
— А как хорошо говорил грюнтальский пастор!
— Да, да, да! Грюнтальский пастор такой милый!
Это «да, да, да» протянула растроганная дочка рингсдорфского фельдшера. Сквозь ее розовое маркизетовое платье просвечивала белая нижняя юбка; серые глаза с наслаждением останавливались на бархатном берете с плоским помпоном.
Грюнтальский пастор был вполне доволен тем, как он справился сегодня со своими обязанностями, и в не меньшей степени с самим собой.
Тем временем богатые рингсдорфские крестьяне с женами вереницей проходили мимо своего пастора и в знак сочувствия пожимали ему руку. Делали они это довольно медленно: а вдруг он все же пригласит хотя бы на чашку кофе или рюмку ликера? Прихожане победнее стояли кучкой и тоже кивали головами. А пастор только безразлично протягивал руку и смотрел куда-то вдаль.
Пройдя мимо пастора, разочарованные прихожанки еще немного помешкали.
— Вы заметили, милая фрау Кетлер? Он никому не смотрит в глаза.
— Да, милая фрау Лангшток. Хоть бы слово кому сказал!
— И ни одного родственника не пригласил на похороны! Просто неслыханно!
— Когда хоронили господина Хагена, одних приглашенных было больше сотни.
— Шесть гусей на обед зажарили.
Усач, услышав это, загремел:
— Две бочки мюнхенского на село!
Люди переминались с ноги на ногу, ожидая, что будет пастор делать. Он, конечно, опустится на колени перед могилой и углубится в молитву, как справедливо сказал грюнтальский пастор. Может быть, он стыдился плакать перед людьми. Кивая друг другу и грозя пальцами, они всей гурьбой отошли к ограде и стали оттуда наблюдать.