Ты стоишь неподвижно, опираясь о землю всей тяжестью кряжистого тела, — ты как будто сросся с землей. Ты привык становиться против ветра, поэтому твои плечи отведены назад, а грудь развернута, и во всем твоем теле видны упрямство и упорство человека, противостоящего природе.
Ты приехал сюда с большой группой. Пусть иной турист «люкс», путешествующий в приятном одиночестве, усмехнется, глядя, как ты спешишь к автобусу, чтобы занять место у окна; пусть подшучивают английские переводчики: «А существуют в природе финские „люксы“?» Ты дорог мне, турист третьего класса.
Тебя кормят твои руки, и ты не помнишь в жизни дня, когда бы они бездействовали. Целый год ты работал, чтобы получить право на путешествие. Из всех маршрутов, открытых перед тобой, ты выбрал именно этот. Когда по вечерам ты приходил домой, усталый валился на кровать и закрывал глаза, тебе мнилась, наверное, страна твоего путешествия, она развертывалась перед тобой, открывая за каждым поворотом дороги иные земли, иную жизнь.
На твоем автобусе надпись: «Суоми». В нем говорят по-фински. В нем еще не выветрился воздух Финляндии. Он и есть сама Финляндия, потому что лучшее в твоей стране создано не предприимчивостью и капиталом «люксов», а твоим умом и твоими руками, турист третьего класса.
Вот почему я рада быть вместе с тобою…
— Все на месте?
— Все!
— Ничего не забыли?
— Ничего!
— Даю отправление!..
— Э-эх! У-ух! А-ах! — вскрикивают мои туристы всякий раз, как машина берет новый подъем и перед глазами все шире раскрывается окрестность, а линия горизонта все удаляется.
И вот мы на самой вершине. По одну сторону от нас — Финский залив, по другую — зеленая чаша стадиона. Туристы выходят из автобуса. Последней выхожу я.
Здесь, на вершине холма, дышится легко. Белый пароход берет курс на Петродворец. Он летит стремительно, едва касаясь воды.
— Мартти, сниматься! Сюда, сюда! Нэйти, сфотографируйтесь с нами!
Это кричат мои туристы. Я делаю шаг к ним, но Мартти останавливает меня. Он смотрит в сторону Финского залива, потом переводит глаза на побережье.
— Скажите, нэйти, где проходила в войну линия фронта? Вот там, да? Я воевал здесь, стоял под Ленинградом. Вы были маленькая тогда. Где вы были в то время?
Я не хочу вспоминать о блокаде, и нет в моей жизни ничего, что наводило бы меня на эту мысль. Разве только булки. Дело в том, что в доме, где я живу, внизу — булочная. Несколько раз в день к ней подъезжает автофургон. Когда распахиваются его двери и в булочную начинают вносить ящики с булками и вокруг расходится запах свежеиспеченного хлеба, на меня нападает тоска. Тогда надо повернуться и быстро уйти прочь. Тетя Муза говорит, что это нервы.
Когда Мартти спрашивает, где я была, на меня нападает точно такая тоска, но я отвечаю Мартти спокойным голосом, что была в Ленинграде.
— В Ленинграде? — удивляется Мартти и пошире раскрывает глаза. — Как же вы выжили?
Это обыкновенный вопрос. В нем нет ничего особенного. Человек хочет знать, как выжила я, когда умирали десятки тысяч других. Я сама рассказывала туристам о блокаде во время экскурсии по городу, когда мы стояли против исполкома.
Но одно дело — говорить о войне там, где это предусмотрено программой экскурсии. Другое дело — объяснить человеку, отчего ты осталась жива, если он, этот человек, — один из тех, кто все сделал, чтобы ты не существовала.
Вокруг нас собираются туристы. Они становятся по обе стороны от нас и ждут: некоторые из них успели захватить начало разговора. Я молчу. Я пытаюсь преодолеть барьер, внезапно разделивший меня и Мартти, отбросивший нас на двадцать лет назад и поставивший друг против друга. Я пытаюсь снова увидеть в Мартти только туриста, связанного с миром через меня — гида. Я пытаюсь поверить, что Мартти родился в туристском автобусе.
Нет, я не хочу, чтобы Мартти родился в туристском автобусе! Пусть останутся его связи с жизнью — от простых до сложных — такими, какие они есть, пусть он будет самим собой, пусть спрашивает с любопытством: «Как же вы выжили?»
Мартти не ждет ответа. Он поворачивается к кому-то из туристов и говорит, показывая на Ленинград:
— Вот это Исаакий. Он виден издали. В войну он был перекрашен, но все равно служил ориентиром для немецкой артиллерии. А Валкосаари отсюда не видно. Мы прочно засели там в железном доте. Железный — так мы его называли, думали, нас ничто оттуда не вышибет. Разве что — приказ захватить город. Иногда нам казалось, что в городе уже никого в живых не осталось. Но однажды Мякинен — никто из вас не знал Эско Мякинена, сына старика Мякинена из Рованиеми? — он вышел помочиться, и — фьють! — никто не успел рта раскрыть, он свалился мешком. Никогда не видел смерти нелепее. С него и началось, с Мякинена.
— Замолчите.
Я думала, что кричу, а говорила неожиданно тихо. Толпа колыхнулась. Мартти обернулся ко мне:
— Что ж, разве я один воевал? Все воевали. Только я говорю, а другие молчат. Ну спросите их, нэйти! Спросите! Ты воевал? А ты?
— Воевал.
Это сказал грузный мужчина. Он выдвинулся из толпы и стал против Мартти, как бы заслоняя меня.
— Воевал. Заставили — воевать. Ведь одних заставляют стрелять, а другие стреляют потому, что им это, видно, нравится.
— Что ж, — Мартти пожал плечами, — люди рождаются артистами, учеными. Почему бы им не рождаться солдатами?
— А за что воевать? Во имя чего? Твой Мякинен — я не знал его, — может, он был неплохим парнем, — строил какие-то планы, надеялся. А потом — мешком около железного дота. Почему? Во имя чего? Ты можешь ответить?
— А почему под солнцем растет трава? Ты можешь ответить? Свои законы у природы, свои законы у войны.
— Я спрашиваю, для чего такие войны? Кому они нужны с их дурацкими законами?
— Для нации.
— Тьфу, — сплюнул грузный и шагнул в сторону.
— Видите, — сказал Мартти. — Человек без идей — мещанин. Он держится за свое барахло.
— Это наша жизнь — барахло? — спросил из толпы рябой пожилой финн. У него были большие руки, он стиснул их в кулаки. — Наша жизнь — барахло? Конечно, для таких, как ты, тысяча живых, тысяча мертвых — какая разница! А у нее, — он показал на меня, — нет отца и матери. У меня сын погиб, у нее, — он показал на одну из туристок, — муж. По вине таких балаболок, как ты. Какое ты имеешь право говорить от имени нации? Много ты понимаешь, что нации нужно! Из-за таких, как ты…
— Нашел виновного! — Мартти задвигался, зашевелился, попытался рассмеяться. — Нашел с кого спрашивать за войну. Я был рядовым, валялся в окопах, у смерти под рукой, ты думаешь, мне жить не хотелось? Прошел всю войну…
— И ничему не научился.
— А чему ты научился?
— Я смотрю на город и вижу город, а ты смотришь на город — видишь мишень.
Мартти улыбнулся:
— Кто видит мишень? Все мы видим город. Прекрасный город! И нэйти сейчас расскажет нам о нем что-нибудь интересное.
Это он обращался ко мне. Я помедлила и начала:
— Этот парк был заложен в день окончания войны, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. И назван он парком Победы…
…Мы уезжали со стадиона. Я сидела на своем обычном месте, рядом с шофером. В самом конце автобуса примостился в углу Мартти. Он напряженно смотрел в окно. Между ним и мною разместились на мягких сиденьях двадцать туристов третьего класса.
25
Итак, я защищаю диплом: «Суффиксы в финском языке». Да кому это интересно! Даже моему руководителю, даже комиссии нет дела до суффиксов. Что там суффиксы! Каждый день мы открываем газеты: как дела в мире, что слышно в Ираке, Испании, как дела с сельским хозяйством, со строительством.
Впрочем, со строительством все в порядке. А скоро будет еще лучше: ведь коробки хоть и медленно, но все-таки движутся вперед. Мы работаем над ними не покладая рук! Но они, эти коробки, оказались сложным делом.
Они капризничали, требовали особых механизмов для сборки, специальной теплоизоляции, и даже окна в этих коробках было сделать сложнее, чем в обыкновенном доме. Юрка огорчался, у него падало настроение, и тогда я делала вид, что никаких коробок и в помине нет, и мы старательно обходили все смежные темы. Но я так привыкла к этим коробкам, что не могла не говорить о них и не узнавать о них все новое, даже если эти новости огорчали Юрку. Одним словом, коробки были делом, а мой диплом о суффиксах — бумагой, которой предстояло пылиться в университетском архиве. Я, конечно, его защитила. Комиссия была равнодушна к суффиксам и ко мне и поставила мне четверку. Больше мне было не нужно.
И вот диплом защищает Юрка. С утра все вверх тормашками. Я на работе, но чисто механически. Механически сажусь в автобус, даю шоферу механические распоряжения, механически веду экскурсию.
— Мы на площади Искусств. Справа — здание Филармонии, прямо, обратите внимание, Русский музей.
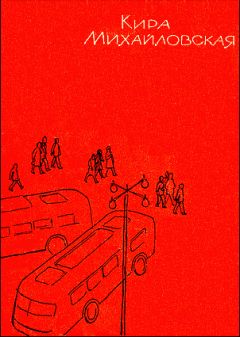
![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)



