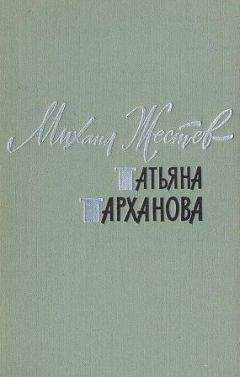И личная жизнь Игната оказалась вдруг полна противоречий. Жизнь человека — это прежде всего семья. А он как живет? Лизавета хотя и любит его, но не жена. Нет, она не против, чтобы стать его женой. И ему женщины лучше не надо. Но вот беда. Не один месяц прожили, а Лизавета не понесла. И раньше не было у нее детей. А какая же это семья без детей? Но разве может он уйти от той, которую любит и которая приютила его в эту тревожную, трудную пору? Он знал, чего нельзя делать, но не знал, что надо делать...
Летним вечером прямо с комбината он зашел в Дом малютки. Танюшка, вот кто устроит его жизнь. Ради нее есть смысл построить новый дом, она сделает вполне оправданным его брак с Лизаветой и сохранит ему Лизавету. Как он раньше об этом не подумал?
Ему принесли девочку в сад.
Какая у него внучка! Чернявая, вся в мать. Нет, не только в мать. Она и в Василия, значит, и в него, в деда. Такая же размашистая бровь и глазенки серые, с грустинкой смотрят не на тебя, а куда-то далеко. Он подхватил ее, осторожно поцеловал под ушко, в черные завитки волос, и счастливо засмеялся.
— Скоро дома будешь жить...
За ужином Игнат сказал Лизавете:
— Был я сегодня у Танюшки. Хорошая девочка.
— Ну что ж, — понимающе кивнула Лизавета, — давай возьмем.
— Чтоб я ей был отцом, а ты матерью. Пусть растет, горя не знает.
— Я не против, — тихо проговорила Лизавета. — Только дай посмотрю сама. Не бойся, она мне понравится...
Когда на следующий день Игнат пришел с работы, то с удивлением заметил, что его ждет празднично накрытый стол и нарядная, в цветастой кофте Лизавета. Радостная, помолодевшая, обняла Игната и весело сказала:
— Тебе от дочки привет, от Танюшки.
— Была?
— А знаешь, она на меня тоже похожа. Давай ее завтра возьмем.
— Пускай чуток в хоромах поживет.
В одно из воскресений Тарханов и Лизавета пошли за город, в ту сторону, откуда далеко на юг простиралось холмистое подножье Валдайской возвышенности. На краю города, за пустырем, Игнат остановился и вздохнул полной грудью.
— Раздолье какое!
— Оно так и зовется, это место, Раздольем.
— Не зря зовется. Тут и начнем весной строиться. Отмерь-ка, Лиза, пятьдесят шагов в длину. А я ширину возьму.
Лизавета остановилась у лужицы и крикнула оттуда:
— А что, если еще шагов двадцать прихватить? Можно?
— Давай, — согласился Тарханов. — Земли тут вон сколько, все равно зря пропадает. — И, согнувшись, на тридцатом метре воткнул в землю палку. Потом он разогнулся, вновь оглядел просторы Раздолья и произнес с какой-то большой гордостью и торжественно: — Знаешь, Лиза, что есть крестьянин и чем он не схож с другими людьми? Крестьянин, он не может жить, чтобы ничего не сотворить. Посели его на голом месте, он дом поставит. Посели его в чужом доме, он огород при доме вспашет. А нельзя дом построить, негде огород вспахать — хоть на чужом дереве, а все равно свое гнездо совьет.
Осеннее солнце грело, как летом. Но вот откуда-то подуло зимним холодом. Игнат взглянул на небо. Солнце скрылось за рваными тугими облаками. И лицо Тарханова тоже стало хмурым, Лизавета беспокойно спросила:
— Ты что, Игнат?
— Ничего!
— Посуровел.
— Показалось тебе. Да и чего мне еще желать, когда ты со мной и скоро Танюшку возьмем. Настоящей семьей заживем.
Он уговаривал себя, что все у него хорошо. И он был бы счастлив, если бы не понимал, как непрочно его счастье.
В июле закончили рыть котлован. Потом началась заливка фундамента, и к осенним дождям высокие кирпичные стены ушли под крышу. Словно вместе с новым корпусом комбината поднимался Игнат. Из землекопов стал каменщиком, из каменщиков — слесарем по установке нового прессового оборудования, правда слесарем еще очень низкого разряда, но уже имеющим право считать себя полноправным огнеупорщиком. В тот день выпал первый снег. Он падал крупными хлопьями, оседал на взрытые огородные гряды и прикрывал собой землю, остатки капустного листа и неведомо откуда принесенные ветром багряные кленовые листья. Вскоре все вокруг стало бело и чисто. И так же бело и чисто стало на душе Игната.
Зимним утром Игнат шел в механическую, чтобы дать на расточку втулку. На заводском дворе горели фонари, дымным морозным туманом вырывались из помольного цеха облака пыли. Они смешивались с сумерками зимнего утра, стыли на холоду и, казалось, осыпали лицо моросящим дождем.
Неожиданно из темноты, словно стараясь распластаться по снегу, выскочил кто-то в жесткой, похрустывающей робе. Игнат отшатнулся. Ему показалось, что это Егор Банщиков хочет броситься на него. Невольно сжал в кулаке втулку. Но тот, которого он принял за Егора, сам испуганно отпрянул назад и, метнувшись в сторону, скрылся за вереницей вагонеток. Еще чувствуя, как тревожно бьется сердце, Игнат вошел в механическую. Его поразила странная, непривычная тишина. И в то же время необычно громко звучали голоса, которые раньше покрывались мерным шумом станков и трансмиссий. Цех не работал. Только неподалеку от двери какой-то парень и старик с короткой, подстриженной клинышком седой бородкой и очками на кончике носа сшивали приводные ремни, которые кучей лежали у их ног. Старик был очень похож на деревенского шорника, это делало его доступным, почти знакомым, и Игнат спросил:
— Что у вас тут стряслось?
— Стрясется, ежели ходят всякие, кому надо и не надо, — зло ответил старик.
— Я по делу — вот втулку расточить.
— И тот небось дело имел, — раздраженно произнес шорник, но, взглянув па втулку, сказал спокойней: — Подождешь, вот ремни сошьем.
— Чудно, — удивился Тарханов, — сразу лопнули на всех станках. Значит, сшивка плохая была.
— Сшивка, сшивка! — выкрикнул старик. — Много ты понимаешь. Смотри, это что? Ножом полоснули. А это вот? — И он выхватил из кучи первый попавшийся ремень. — Тоже обрезали...
Некоторое время Игнат молча наблюдал, как напрягается сутулая спина старика, как его руки спешат сшить ремень, и неожиданно спросил:
— У тебя еще шило есть?
— Я бы тебе его в зад ткнул, чтобы работать не мешал.
— А ты на меня кобелем не кидайся, — в свою очередь прикрикнул Игнат. — Доставай шило.
— Шорничал? — уже не так сердито спросил старик.
— Хоть сбрую сошью.
— Тогда садись, покажу, как ремни чинить.
Забыв, что его ждет Матвей, Игнат принялся за дело. Первое время они работали молча. Потом старик спросил:
— Ты, стало быть, из нового корпуса?
— Монтируем.
— А фамилия твоя как?
— Тарханов.
— Игнат Тарханов? Тот самый, который на котловане отличился?
Игнат был удивлен, что шорник его знает, и в свою очередь счел себя обязанным проявить сочувствие:
— Надо же такое озорство учинить, ремни подрезать.
— Это не из озорства, а из выгоды.
— Велика ли выгода?
— Фома ты, Фома! Ты понимаешь, какое сейчас время? Все со своего старого места сошло...
— Известно, какое время, — согласился Игнат.
— Так вот, ежели в такое время суматоху устроить — не миновать кутерьмы.
— А кто же эту кутерьму хочет устроить?
— Всех перечислить — пальцев не хватит. Ну, а про основных могу сказать. Думаешь, ежели мы кулаку под зад дали, так он памяти лишился? Это раз! Опять же международная капиталистическая гидра. Полагаешь, она сама по себе, а мы сами по себе? Ну нет. Мы своих капиталистов били, она тоже чувствовала. Это два! Только все эти враги так это, за здрасте-пожалуйста, собственной персоной не явятся. У них родня есть. Всякие свояки. Бандиты, к примеру: им заплатишь — что хочешь сделают. Это три! Контрреволюционеры всякие, которых не добили, скажем, на Дону или в Сибири. Это четыре. Ну, а пять — это которые к власти рвутся. Вроде как сначала с нами были, а потом решили так: социализм не социализм — хрен с ним, главное, чтобы к власти пробраться! Ну вот, теперь ты всех этих людишек по ранжиру выстраивай и решай сам, кто кому платит, от чего кому какая выгода, а главное, соображай, что нам с тобой делать. Ты такую игру — шахматы слыхал?
— Видал однова, как поп с учителем играли.
— Жизнь, она вроде шахмат. Разные в ней фигуры, и по-разному они ходят. И вот те, кто нынче ремни обрезал, и те, кто им за это деньги посулил, и те, кто этим к власти пробраться обещал помочь, — все они про нас с тобой думают так: пешки мы, куда поставят, там и стоять будем, а нет — с доски долой. А мы, пешки, себе на уме, через нас не сиганешь, и ежели мы друг за дружку держаться будем — и с доски не скинешь.
— Занятно говоришь, — сказал Игнат. — А как тебя по батюшке и по фамилии?
— Одинцов я. Петр Петрович.
— Ты, Петр Петрович, наверное, когда помоложе был, по партийной части заворачивал?
— Я и сейчас в партии. А в семнадцатом Зимний брал.
— Вот видишь. Только непонятно — такой человек и вдруг шорничаешь. Как же так?