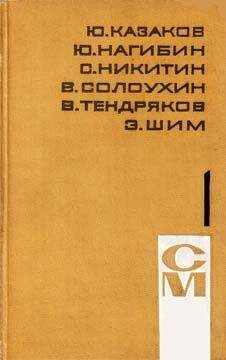Река — узенькая полоска воды. Я перешагнул ее вместе с обступившими лесами, с полями, с прибрежными деревеньками, с крошечной, как карманная игрушка, шатровой церковью. Я бы вглядывался в эту церковь, гадал бы, какого она века, влезал бы внутрь, чтоб помочь Севе Перченкову искать иконы старинного письма. Один мой шаг — и нет этого, один шаг — и целая жизнь позади, в прошлом.
Лесное озеро! О, оно даже достойно моего великаньего внимания! Как жесткой травой, обросли его берега лесом, посреди озера — кочка, лесной остров. На одном из берегов маленькая полянка, на ней одинокая избушка. Полянку вместе с избушкой, с доброй половиной заливчика я легко бы мог сейчас прикрыть своею ладонью. Наверно, время от времени эту избушку навещает какой-нибудь Иван Васильевич, разжигает в ней по вечерам каменку, варит уху…
Прогрызаясь сквозь лес, ожесточенно изгибаясь, ползет к озеру узенький — блестящая черная нить — ручей. Он, наверное, еще более глухой, менее обжитый, чем тот Тесовый ручей, щедро населенный окунями. Светлую память оставил он нам!
Размашисты мои шаги, не успеваю во все вглядеться — за спиной осталось озеро, лесная избушка, ручей, просачивающийся сквозь лес.
Я иду по лесам без конца и без краю. Но вот среди них одна за другой начинают появляться северные пустыни, обширнейшие ржавые болота, трясины без намека на какую-нибудь жизнь. Они велики даже для моего полукилометрового роста, для моих размашистых шагов. Слизистая, влажная накипь — болячки на земле! В этих местах земля вылиняла, лес не растет, еле заметная кой-где торчит редкая щетина высохших от обилия влаги деревьев. Изредка воронеными металлическими краплениями поблескивают лужи и крохотные унылые озерца. Когда-то все эти трясины были обширнейшими озерами. Порой можно различить след белых берегов настолько отчетливо, что я бы легко очертил их пальцем.
Рыжие пустыни — «белые пятна» на земле. Человек с высоты великаньего роста не раз, конечно, бросал на них взгляд, но никогда еще не притрагивался к ним рукой. Никогда! И меня, великана, возомнившего о своей силе, берет досада. Как бы мне хотелось запустить в эту трясину свои руки, вычерпать жидкий ил, создать твердые берега, чтоб они до краев наполнились чистой, здоровой водой.
Но меня успокаивает одно: раз человек видит эти болячки на теле земли, он непременно — рано или поздно — примется их лечить. Уже сейчас нет-нет да я вижу дорогу, перерезающую трясину. Она устлана стволами деревьев, по ее обочине, как выветренные кости, лежат упавшие березки. Человек уже оставляет здесь свои следы, упрямый и ненасытный человек, которому всегда будет не хватать места для жизни.
Я прошагал через все трясины, через леса, перегораживающие их, — и снова обжитой край. Вот широкая река с застывшими на ней пароходиками и баржами, отбрасывающими за собой неподвижный пенистый след. А берегов у этой реки, собственно, нет. Все они завалены штабелями леса. Штабеля тянутся бесконечными рядами, невольно они вызывают сомнение: неужели их собрали те маленькие люди, те мельчайшие существа, которых я могу различить, только с усилием напрягая свое зрение? Насколько они малы сами по себе, настолько велики их дела. Я вспоминаю рабочих из бригады Ямщикова, вспоминаю их каменную дамбу…
Пошли дома, дома, дома, нет им конца, хотя я и шагаю через них своею великаньей поступью. Огромные корпуса заводов… Массивная труба чуть ли не достает до моего лица. Я, как в жерло пушки, заглянул в ее пасть, а она в отместку обдала меня дымом.
Весь мир встает на дыбы — самолет разворачивается на посадку. Дома растут, улицы становятся шире, машины на дорогах уже не кажутся хрупкими и беспомощными, все отчетливей видны сами люди. Мир растет, а я, недавний великан, съеживаюсь. Прошло отпущенное мне время быть Гулливером над землей.
Самолет, подскакивая на ухабах, выруливает в дальний угол аэродрома. Я вылезаю, ступаю ногой на твердую почву. Я снова, как все, обычный среди обычных, простой человек. Мои мысли тоже скатились со спесивой великаньей высоты, суетные заботы охватили меня: достану ли билеты, не опоздаю ли на московский рейс?..