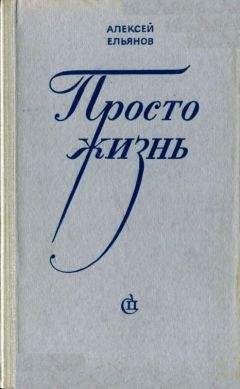Сидели они на старых ящиках и курили. Теплый ветер с Невы уносил легкий дым к высоким лесам, облепившим пузатую корму высоченного сухогруза. Еще немного, и взорвет он невскую воду, зароется в пене, а потом загрохочут якорные цепи, разрывая тонкие лини в клочья, и закачается готовенькое судно на спокойной воде под веселые крики всех, кто его создавал. Титов мог бы выставить перед собой целую флотилию. Он и Петру предложил этот славный путь создателя кораблей, он верил, что Петр сможет быть ему настоящей заменой. Но все вышло по-другому.
Петр все-таки поступил в университет. Титов был поражен переменой в жизни своего подопечного. На том же Месте, где мастер любил перекуривать не спеша, у самой Невской воды, в окружении досок и железяк, спросил он, что же произошло, зачем такой поворот в судьбе.
— Что, академик, хочешь быть умнее всех?
И Петру показалось, что человек, познавший беды войны и счастье самых высоких наград за воинскую отвагу и за труд, умный, глубокий, независимый и независтливый человек, обиделся. Как будто Петр сбежал, дезертировал. Или будто он двоедушничал до сих пор, дурачил всех, прикидывался «своим парнем».
Петр хотел сказать, что он будет учителем, таким же, как Титов, только в другом деле, — трудно было объяснить все сразу. Но после долгого молчания ответил с неловкостью, он всегда чуть-чуть робел перед Титовым:
— Какое там, умнее всех. Мне как раз вот и не хватает знаний, тянет учиться.
— Ну-ну, посмотрим, что выйдет, академик. Это момент ответственный. Может, так и надо. Кем будешь-то?
— Учителем, — сказал Петр.
— Что ж, одобряю, одобряю, — смягчился Титов.
Петр старался, требовал от себя максимума. И тогда, во время разговора со старым мастером, твердо сказал:
— Да, буду учиться пока на вечернем отделении. Но чтобы учеба шла как следует, надо бы перейти на дневное отделение, оторваться от всех этих металлоконструкций.
— Оторваться от металла? — переспросил Титов. — Да ты, дурья башка, разве с металлом работаешь? Неужели ты так и не понял, что такое строить суда?
— Не обижайтесь на меня. Наука требует человека полностью, — сказал он Титову. А тот подумал, помолчал, вздохнул устало:
— Стапель тоже требует человека полностью. Посмотри, разуй глаза!
Могуче, царственно возлежали на стапелях почти готовые и еще строящиеся суда. Вспыхивали огоньки сварки, сшивались морские суда-гиганты.
Поближе к Неве строилось самое большое судно, снизу доверху, как дом во время ремонта, оно было одето лесами и высилось над всем, даже над крышами самых высоких корпусов завода. Только краны были выше него. Рядом с ними было разбросано, разложено, установлено, дыбилось, топорщилось, возвышалось, возносилось к небу все, что создано тут человеческими руками. И один из созидателей всего этого железобетонного мира, в фуфайке, в широченных брюках и каске, стоял неподвижно на прогнувшемся железном листе и смотрел на корабль.
Мастер Титов. Знаменитый человек.
Как много времени прошло с тех пор. Петр вспомнил, что Титов оказался в некотором смысле прорицателем. Как-то в разговоре об отпуске, о путешествиях, о местах, где еще осталась старина, Титов предложил:
— А хочешь, дам адресок? Там всего хватит. Пойдешь до Кеми, потом за Соловки, и как раз будет Гридино. Там у меня старинный дружок есть, детей у него куча — девки все, красавицы, в мать. Поезжай, поезжай! Вернешься, потолкуем. — Титов бросил окурок в Неву, навстречу волне, поднявшейся от старательного, тупоносого, похожего на утюг буксира.
Приплыли, пришли.
Две скалы справа и слева, катер проходит между ними и оказывается в бухте. Окружила тишина.
На высоком берегу, в утреннем просветленном сумраке тихие черные ели вырастают, кажется, прямо из валунов, а рядом — радостные, желтостволые, будто медовые, сосны с легкими, парящими вершинами. Самые дальние деревья начали подрумяниваться солнцем.
Справа и слева по берегам бухты длинными рядами на серых скалах выстроились белесые бревенчатые дома. Один ярус, другой, третий, а между ними на добротных сваях — мостки из крепких досок. А поближе к воде, тоже на сваях — амбары и баньки.
Катер, заглушив моторы, проплыл немного на тихой воде, остановился посреди бухты. Бросили якорь, завыла сирена. И вскоре от длинных мостков отчалили черные лодки с высокими бортами, по-местному — карбасы. Казалось, они идут на приступ. Заиграла гармошка, послышались песни вразнобой — жители встречали почту, родственников, продукты.
Была «высокая» вода. Море колыхалось над мостками. Два дюжих парня, надев резиновые охотничьи сапоги, стояли по колено в воде и, подхватывая пассажиров прямо из лодки, переносили их на каменистый берег.
Профессор захотел выпрыгнуть сам, да оступился, чуть было не упал плашмя в холодную воду. Парни вовремя успели поймать старика под мышки.
— А где у вас тут живет Гридин Александр Титыч? — спросил у них Петр.
— Эвона, — радостно махнули руками оба парня, — на самой макушке под соснами.
Идти по камням, взбираться по круче Даниил Андреевич не захотел. Его мучила одышка, он боялся крутых подъемов.
— Вы уж меня устройте тут где-нибудь поближе к берегу, — сказал он своим молодым попутчикам.
На житье устроились к одинокой, добродушно улыбающейся беззубым ртом тетке Евдокии. В ее доме было уютно, чисто, четыре окна выходили на двор и на улицу, на мостки. Окна были вырублены низко, на каждом окошке стояли цветы в горшках, а чуть пониже подоконника — крепкие лавки, их доски были хорошо оструганы и покрыты лаком, секрет которого не разгадал, оказывается, еще никто. Лак крепкий, прозрачный, он покрывал старинные, не почерневшие еще иконы в красном углу и доски пола, шириной чуть ли не в полметра. Жаль, что на стены были наклеены обои, они обвисли, пожухли.
Русская печь, будто бы только что побеленная, разделяла просторную комнату на две неравные части. Над прокопченной пастью печи в деревянной посуднице сияли медные, начищенные до золотого блеска, чеканные «досюльные» ковши и кастрюли.
— Пользуетесь? — спросил Петр у тетки Евдокии.
— Да уж куда там, милый. Все для красы, — улыбнулась она.
На столе сиял надраенной медью, постанывая, самовар. Мерно постукивали ходики с гирьками в виде еловых шишек.
Хозяйка угостила постояльцев «трещочкой из-под самовара» — обыкновенной соленой треской, заваренной крутым кипятком, но вкусной почему-то необыкновенно.
Тетка Евдокия неторопливо, с достоинством и простотой подавала треску, разливала чай. На ее полном обветренном лице было немало морщин, но молодостью и спокойной силой светились глаза, они все подмечали, понимали. Говорила хозяйка негромко, напевно, чуть-чуть пришепетывая:
— Да как живем, помаленьку вот и живем, слава богу. А ну кыш, кыш! — махнула рукой хозяйка. К окну прилипли носами русоволосые мальчишки и девчонки, озорно, отважно вглядывались они внутрь дома.
— Внучата ваши? — спросил Даниил Андреевич, допивая уже третий стакан крепкого чая.
— Нет, отец мой, нету моих. Не дал мне бог мужика, на свадьбе помер.
Поразило это признание, оно было без боли и грусти, сказала буднично, даже весело.
— Убили? — сочувственно покачал головой Илья.
— Да господь с тобой, так помер, сам по себе. Напился самогону, лег на снег и помер. Сожгло ему все внутри… а может, подмерз… бог его ведает.
От этих подробностей тетка Евдокия опечалилась немного, да не хотелось ей нагонять тоску на гостей, махнула рукой:
— Царствие ему небесное, давно это было, успокоилась, прижилась одна. А в войну дак и все мы без мужиков управлялись, бригадирствовала я над бабами, рыбки брали не меньше, чем теперича. Бывало, пойдешь похожать сети да мережи, ветру нет, чтобы идти под парусами, нагребешься с утра до вечера, — жить неохота. А в баньку сходила, чайку попила, на печи повалялась, и наново радость пришла.
Петр не удивился, когда хозяйка сказала, что вечером она пойдет танцевать. В местном клубе намечался праздник.
— Это для стариков, кому дома не беседуется, — пояснила тетка Евдокия. — А чего, молодые нас не принимают, нам-то, чай, тоже поскакать охота, душу отвести. Не принимаете — не надо. А к нам идут — нравится, кадрили пляшем, — с гордостью сказала она. — Даже вона, городские идут смотреть.
— А кто же это такие? — поинтересовался Петр.
— А хотя бы зятья Александра Титыча. На пенсию нынче уходит, на законный отдых. Весь род у него вона собрался. Приехал и Зойкин муж, да Глашкин мужик, да Варькин. Все представительные. Один при усах, другой при галстуке, а у третьего — зубы золотые. Нинкин хозяин тоже ничего, душа веселая, добрая, хоть и хромой он, да проворный, и водочку любит без меры. Горе, видать, запить не может — раненный был в голову. И жену ревнует. Жена у него красавица, в мать пошла, а у него лицо рябое, конопатое, без выгляду, как у Пахомушки, — сравнила с каким-то, наверно, бедолагой тетка Евдокия. Она вздохнула сочувственно и подставила снова под медный узорчатый кран самовара большую цветастую кружку.