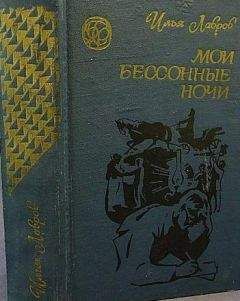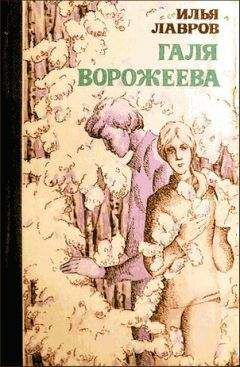Все замечаю, все люблю, от всего счастлив. Даже от стужи. А она все усиливается. Уже, наверное, сорок градусов. Обжигавший ветерок давно стих, и поэтому сухой мороз не страшен. Туман все густеет. Такой бывает в самую сильную стужу. Дома, люди, побелевшие лошади едва проступают из него.
Ко мне скользит на коньках глухонемой Петька в новенькой черной борчатке, перехваченной красным кушаком. Петька в белых, неразношенных пимах, в дорогой пыжиковой шапке. Щеки его с ямочками пылают.
Мы смеемся, радуемся друг другу.
Со скрипом, раскатываясь на поворотах и ухабах, пролетают подводы. Каждая лошадь привязана к бегущим впереди саням. Возчик в огромном тулупе копной торчит на первых санях.
У нас крючки из толстой проволоки. Мы цепляемся за последние сани, наполненные сеном, и мчимся, наслаждаясь быстротой. Это называется «кататься на подводяре».
Иногда подводчики соскакивают с передних саней и гоняют нас кнутами. А мы, упоенные опасностью, погоней, удираем, что есть духу, и снова цепляемся.
Наконец подводы притаскивают нас к базару.
Мы с Петькой скользим среди дымящейся толпы. Все в полушубках, в тулупах, метущих по снегу, в меховых шапках с опущенными ушами. На вязаные рукавицы натянуты неуклюжие шубенки из овчины или мохнашки из собачьих шкур.
Продавцы и покупатели прыгают, толкаются плечами, бьют рука об руку, ногой об ногу — греются.
Петька озорной и шкодливый, как чертенок. Он то и дело подставляет мне подножку, и я валюсь, а он в восторге мычит, носится по базару, хватает у баб то горсть брусники, то огурец из бочки и улепетывает.
А я люблю все разглядывать.
Вот из тумана выплыли огромные возы с сеном.
Катимся вдоль ряда саней-розвальней. На них белые свиные и красные бараньи стылые туши, груды окаменевших гусей, зайцев, куропаток, рябчиков.
Выпряженные лошади, привязанные к саням, мирно жуют сено, всхрапывают.
Из густого тумана высовываются то задранные оглобли, связанные на концах ремнями, то седые лошадиные головы, то кули муки, то с задубелым на морозе лицом баба, толстая от полушубка. Голова покрыта серой шалью, похожей на суконное одеяло. Концы шали скрещены на груди, пропущены под мышками и завязаны на спине узлом с добрую голову.
Клюква в кадушках, подернутая изморозью, гремит, как стеклянная. Молоко, замороженное кругами, несут в мешках, в корзинах.
Мы катимся, заглядывая в берестяные туеса с медом, в бочки с солеными груздями и капустой. Желтая, хрусткая, она пересыпана красными кружочками моркови, брусникой, кристалликами застывшего рассола. Она сыплется с ложки, шуршит.
От ровных кубов масла длинными ножами откалывают куски. А от свиной туши их отпиливают пилой. Сыплются красные опилки.
Вижу отцовские сани с мешками пшеницы. Сгибаясь под тяжестью мешков, он таскает их в лавку. Так и кажется, что спина у него трещит.
Коньки врезаются в утрамбованный до глянца твердый снег.
Наконец мы попадаем в угол базара, где продают елки. Пышные, островерхие, пахучие. Словно мы с Петькой очутились в тайге. Только в ней людно. Снег здесь засыпан хвоей.
Петька потрясает руками, будто беззвучно вопит ура. Глаза шельмы неистово шныряют по сторонам. Ему так и хочется затеять драку.
Бегают ребятишки с санками, на деревянных самодельных коньках, на самодельных лыжах из бочоночных дощечек.
Попадаются счастливцы, которых катают собаки. Держатся мальчишки за веревки, а сильные дворняги мчат их.
Петька восторженно дает одному подзатыльник, другого толкает в снег, у третьего сдергивает шапку. С ним не связываются.
Один парнишка примчался на кудлатом псе, запряженном в санки. На собаке настоящая маленькая сбруя, хомут и даже дуга с оглоблями. Мальчишка держал вожжи. Глядя на него, кругом хохотали.
Петька страстно стонет, выставляет большой палец, что значит: «Здорово!» Он тычет себя в грудь, подкручивает воображаемые усы и показывает на запряженную собаку. Это нужно понимать так: «Я скажу отцу, чтобы он достал мне такую же упряжку!»
И тот, конечно, достанет.
Догоняя друг друга, мы катаемся между елок, наваленных кучами и воткнутых в снег. Налетаем на людей. Нас ругают: «Нечистый вас носит, оголтелые!»
Примчались в рыбный ряд.
И вдруг я запинаюсь, падаю на бочку. На меня хлещет что-то противное, холодное. Я ошалело вскакиваю. Упавшая бочка окатила меня с головы до ног селедочным рассолом. Стою мокрый, облепленный чешуей, а кругом хохочут лавочники, покупатели.
— Ну, губошлеп, не мешкай! Шпарь скорее домой, а то в сосульку превратишься! — кричит мне хозяин бочки.
Особой заботы со мной у мамы не было, а вот с Алешкой… Уж очень он упрямый рос.
Как-то летом отец, Шура и Солдатов собрались на Обь рыбачить. Взяли и меня с Алешкой.
Рано утром переплыли Обь и причалили за небольшим мысом. Вытащили лодку на полосу чистейшего, сыпучего песка, перемешанного с кусками сосновой коры. Река то выплескивала, то снова утаскивала дохлых, вялых рыбешек. Кое-где виднелись черные пятна старых костров. Полузасосанные мокрым песком коряги, как осьминоги, простирали судорожно скрюченные сучья-щупальца. Подальше от воды, под обрывистым ступенчатым берегом сухо и звонко шуршал ржавой листвой лохматый шалаш, кем-то сплетенный из таловых ветвей. К нему было прислонено самодельное удилище с привязанной ниткой. У входа, над головешками и углями, сиротливо торчали рогульки для котелка.
Цепляясь за свисавшие корни, по обваливающимся ступеням, вымытым весенней водой, мы с Алешкой вскарабкались на высокий берег, заросший тальником. Отсюда открывалась привольно разлившаяся Обь, с сахарно-белыми отмелями и зелеными островами, вся усеянная солнечными вспышками. На том далеком-предалеком берегу темнел бор.
Выше по течению рыбачило несколько мальчишек. Увидев Алешку, они закричали, засвистели. Он подался к ним. А я полез в кусты красной смородины. Кислые ягоды были так прозрачны, что виднелись зернышки…
Солдатов, Шура, отец закатали штаны выше колен, вошли в воду и только, блаженствуя, замерли с протянутыми удочками, как раздался вопль мальчишек:
— Дядя Миша! Алешка тонет! Алешка тонет! — Мы выбежали из-за мыска. Далеко от берега чернела голова. Она то уходила под воду, то снова показывалась, руки беспорядочно хлопали по воде. Отец с Шурой бросились в лодку, погнали ее что есть мочи. Успели, выдернули из реки захлебывавшегося Алешку. На берегу отец отхлестал его ремнем, приговаривая:
— Сукин сын! Не плавай далеко! Не плавай далеко!
Алешка, зажмурившись, молчал. Только белесые брови его дергались от каждого удара.
— Гад полосатый! Не успеешь оглянуться, как он что-нибудь нашкодит! — ругался отец. — Где штаны? Неси сюда — и чтоб ни шагу от костра!
Алешка потащился за штанами, а я занялся костром и чайником.
Прошел час, его все не было. Клевало хорошо, и об Алешке забыли. И вдруг снова вопль мальчишек:
— Дядя Миша! Алешка тонет!
Отец с проклятиями снова ринулся к лодке, Шура за ним, и снова на том же месте увидели мы голову Алешки. Она, как поплавок во время клева, то исчезала под водой, то снова появлялась. И опять успели, опять вытащили. На этот раз отец стегал во всю силу. Мне было страшно смотреть на это. Солдатов и Шура отняли Алешку.
— Чего тебя несет туда, скотина?! — орал отец. — Еще сунешься к реке, я тебе голову оторву, стерва!
Алешка скорчился у костра, молчал, стиснув зубы, рылся в песке. Один глаз его ненавидел, а другой хитро усмехался, прятался к переносице.
— Принеси его штаны, — приказал отец Шуре. Через некоторое время хватились — нет Алешки. Отец выругался. И как будто нарочно, чтобы взбесить его, опять раздались вопли бегущих по берегу мальчишек:
— Дядя Миша! Алешка снова тонет! Честное слово! Скорее!
Сейчас в лодку бросились Солдатов и Шура. Отец топтался на песке, рвал с себя ремень.
— Убью, подлюга, только не утони! — ревел он на всю округу.
Лодка была уже близко, когда Алешка исчез под водой. Ушел и не вынырнул. Шура бросился в Обь, плавал, нырял, Солдатов свесился с лодки, погружая в воду весло.
Алешку через несколько минут прибило к мели, которая знойно белела среди Оби. Шура вытащил его на песок. Подплывший Солдатов положил его животом на колено, из Алешкиного рта хлынула вода.
Шура и Солдатов подбрасывали его, трясли, тормошили. Ожил Алешка, пришел в себя, бессмысленно огляделся вокруг и… заплакал. Заплакал не от страха перед побоями, а от того, что не смог переплыть Обь.
Привезли его посиневшего, дрожащего, жалкого. Увидев Алешку таким, отец даже не тронул его, только осыпал проклятиями.
А Солдатов, удивленный Алешкиным упорством, подкрутил калачи усов, ободряюще подмигнул ему и сунул большой кусок вареного мяса и горбушку хлеба.