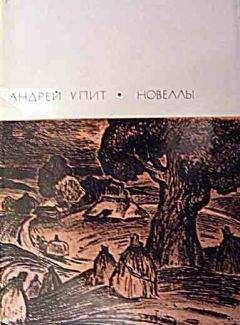Гнетущее, томительное молчание. Мартынь невзначай стучит в стену, но Анцису почему-то кажется, что это условный знак.
Мада словно окаменела. Она готова закричать, заткнуть ему рот, чтобы он не мог произнести этих слов, но тут же сдерживается: пускай… пусть скажет, пусть говорит, что хочет, пусть все растопчет ногами, — скорее будет конец.
— А разве ты в прошлый юрьев день не побежала за мной? — злорадно произносит Анцис.
Кажется, она не слышит, что он говорит, но каждое слово точно тяжелым молотом ударяет ее по голове.
— А разве ты в прошлый юрьев день… — повторяет он.
Но Мада больше не слушает. Ей кажется, что перед самыми ее глазами перерезали блестящую нить. Ослепительно сверкнув, концы ее летят в разные стороны, и ничего не видящие глаза смотрят в густую влажную тьму.
За стеной опять раздаются удары Мартыня. Мада поднимается и выходит.
— Мартынь тебя зовет! — кричит ей вслед Анцис, но дверь хлопает, и Мада не слышит его выкрика. Застонав от боли и жалости, Анцис, как безумный, глядит на пустой стул. Нет больше красной кофточки и белой косынки. В комнате холодно и темно, он прикрывает рукой глаза и падает на кровать.
На дворе Мада смеется и болтает с Мартынем, а Анцис, стиснув зубы, думает и никак не может понять, какое ему дело до Латы Лейниек, до ее батраков и лошадей. Зачем он наговорил лишнего, зачем закидал грязью то, что светило ему до сих нор, как желанный солнечный луч! Неужели в нем говорило то же самое сердце, что в тот день так тосковало по Маде, так тянулось к ней, как тянется из тени цветок к весеннему солнцу!..
3
Юрьев день.
На дворе хутора Паэгли на высокой старомодной пиебалгской бричке сидит Лата Лейниек и ждет, когда из клети выйдет нанятый ею на лето в батраки Анцис Залюм. Некрасивая, лохматая, но сытая лошадь переступает в грязи, обдавая брызгами и бричку и сидящую в ней хозяйку. Та время от времени сердито натягивает вожжи и, повернув голову, смотрит на клеть, где за полуотворенной дверью Анцис собирает свои пожитки.
Лата Лейниек из тех женщин, которые, рано став самостоятельными, вырабатывают у себя твердый, настойчивый характер. Они спорят с мужчинами об удобрении земли и денежных делах, ходят в сапогах и серых бумазейных кофтах, сами режут телок и ягнят. Лате Лейниек лет под тридцать, она среднего роста, но на редкость упитанная. Когда лошадь дергает телегу, круглые щеки Латы так и вздрагивают.
Анцис Залюм на этот раз возится в клети гораздо дольше, чем в прошлом году. Он укладывается и все время посматривает на открытую дверь… Но не на Лату. Он ищет глазами другую, хотя знает, что та с самого утра ушла с Мартынем ровнять на лугу кротовины.
Он знает, что Мады нет дома, и все-таки смотрит и ждет… Может, ей понадобится прийти, может, она что-нибудь позабыла, может, хозяйка позовет пообедать… В клети вдруг потемнеет, и он, словно невзначай обернется, а это она стоит в дверях, зардевшись до самых ушей, опустив глаза. Красная кофточка поднимается на груди, руки теребят передник… И он возьмет ее за руку — боязливо, нежно, словно сознавая свою вину, посмотрит на нее… как тогда, на мостике… и все опять будет хорошо… Затаив дыхание, он временами прислушивается, не донесутся ли из-за двери знакомые шаги. Сердце у него замирает, но чуть погодя он проводит рукой по лицу. Дурацкие выдумки, ведь он точно знает, что она не придет. На этот раз не придет…
На дворе Лата разговаривает с болтливой бобылихой в полную мощь своего зычного, сипловатого голоса. Анцис доволен, что они разговорились: можно еще помешкать в клети.
Но зачем ему мешкать? На что он еще надеется? Он только чувствует, что не в силах уехать, не разобравшись в этой сумятице противоречивых чувств. Он не может уйти в Лейниеки со всем этим нелепым грузом лицемерия, притворства, упрямства и непонимания. Ему кажется, что он должен сделать что-то такое, что собирался сделать весь прошлый год, но не успел. И опять он думает, думает, но в мыслях такая неразбериха, что кружится голова. Он прислушивается к своему сердцу, но оно молчит. Он чувствует только острую, щемящую боль…
Что же не войдет хозяйка, как в прошлый юрьев день… Люди суются со своей помощью, только когда их не просят. Анцис знает, что и хозяйка не придет: ее и дома-то нет. Да если бы она и пришла, разве бы он не ответил ей так же грубо и резко, как вчера? Так ему кажется…
Он бессильно прислоняется к стене и влажными глазами смотрит в глубь клети. Вон старомодный, окованный железом сундук Мады, шкаф, на дверце которого изнутри наклеена подаренная им картинка из времен русско-турецкой войны. На полках стопками сложены пестрые простыни, узорчатые полотенца, желтая шелковая косынка с ярко-красным цветком на уголке, шерстяная шаль с бахромой, книга псалмов и на самом верху — миртовый венок, сохранившийся еще со дня конфирмации… Рядом со шкафом — Мадина прялка, а напротив нее за потолочную балку засунута обвязанная бечевкой коса-одноручка… Легкая дрожь пробегает по телу Анциса: на дворе ведь еще ранняя весна. На глаза навертываются слезы — это, верно, от пыли.
Лата Лейниек все еще судачит с бобылихой, у них всегда есть о чем поговорить. Они толкуют о том, что в прошлую зиму у многих погнила капуста, о том, что в ту осень плохо откармливались поросята, что телята болеют поносом, что овцы нынче принесли только по два ягненка… И вдруг на минутку обе замолкают.
— Так вы, значит, сами приехали за нашим Анцисом! — говорит бобылиха уже другим голосом.
Лата раскатисто, зычно смеется.
— Да уж так получилось: пришлось по пути. Думаю, зачем зря людей посылать, сама заеду. Много ли у него добра-то!
— Где там много… — отвечает бобылиха.
Что она дальше говорит, не слышно, но Лата опять смеется.
— Да где же он там пропадает? Анцис! — зовет Лата и смотрит на клеть.
— Пускай соберется, принарядится, — продолжает болтать бобылиха. — Такая молодая, красивая хозяйка, — нельзя ведь кое-как.
Лата Лейниек опять как-то сухо, неестественно смеется. Ее круглые щеки подрагивают.
Немного погодя Анцис уже сидит в бричке рядом со своей будущей хозяйкой. Лата перегибается через его спину и застегивает кожаный фартук. Затем отпускает вожжи, и сытая лошадка, дернув бричку, выносит их через ворота на дорогу.
Миновав хлев и ригу, они поворачивают на дорогу к церкви, потому что здесь уже подсохло, а на большаке грязь по самые ступицы. Лата пускает лошадь шагом, искоса поглядывая на спутника. И время от времени отворачивается и смеется. Глаза у нее щурятся, щеки надуваются еще больше. Анцис, надвинув на глаза козырек картуза, упорно глядит в сторону.
Погожий и тихий юрьев день. Солнышко в обед печет, совсем как летом. Кое-где видны высоко нагруженные возы с опрокинутыми вверх ножками столами, привязанными лоханями и боронами. Мычат коровы, блеют овцы, слышится детский крик и смех. На выгоне за ивами дребезжащим, тонким голоском повизгивает поросенок. По дымящейся пашне, прихрамывая, уныло ковыляет неизвестно откуда взявшийся петух испольщицы с обмотанной вокруг шеи грязной прядкой льна. Возле пухлых барашков на придорожных вербах, словно заигрывая с ними, вьется ярко-желтая бабочка. А высоко в небе невидимый жаворонок, как и в прошлом году, звонко смеется над рассохшимися, замызганными лоханями, которые каждый год, жалобно поскрипывая, странствуют по изъезженным, грязным весенним дорогам, над дырявыми, толстыми тюфяками, которые, словно флегматичные старики, неуклюже развалившись, греются на солнышке, над обвязанными фартуком или одеялом корзинами и ведрами, из которых доносится мяуканье, визг, гогот, кудахтанье… над всем этим бесконечно комическим весельем юрьева дня, — может быть, и над его наивными, ребяческими надеждами и расчетами.
На крутом повороте дороги Анцис видит, что Паэгли остались далеко позади, на пригорке. Понемногу за чащей сада исчезают верхушки крыш. Вокруг становится все просторнее, пустыннее и неприветливее. Мысли и воспоминания о прошлой весне больше не лезут в голову. Сердце словно цепенеет от безнадежной усталости.
— Через горы и долины… — вдруг запевает Лата.
Анцис поворачивает к ней голову, ничего не понимая. Ни песни, ни взоров своей будущей хозяйки, ни ее самодовольной улыбки.
— Пой же! — понукает она его, тыча локтем в бок, и смеется.
Он отворачивается и опять смотрит в сторону.
Лата продолжает напевать, но — то ли она не знает слов песни, то ли ей лень петь — вскоре замолкает и, улыбаясь, спрашивает:
— Ты что больше всего любишь есть?
— Что?
— Я спрашиваю, какое кушанье тебе больше всего по вкусу? У нас этой весной столько молока, что девать некуда… Да еще парочку телят нынче зарежем…
Помолчав с минуту, она говорит:
— Я думаю твою кровать из батрацкой на нашу половину перенести. Большая комната у нас все равно пустует. Ты как думаешь?