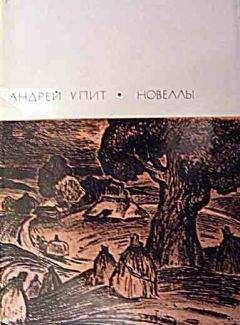Помолчав с минуту, она говорит:
— Я думаю твою кровать из батрацкой на нашу половину перенести. Большая комната у нас все равно пустует. Ты как думаешь?
Сказано яснее ясного, но Анцис ни о чем не думает. Яркое солнце ударило ему прямо в глаза, и он протирает их, чтобы лучше разглядеть, в самом ли деле на лугу, у мостика, рядом с высокой фигурой Мартыня мелькает красная кофточка и белая косынка.
Она…
Мартынь с Мадой облипшими грязью граблями ровняют кротовины, которых в этом году необычайно много — гарево больше напоминает вспаханное поле, чем луг. Оба так увлеклись разговором, что замечают ездоков, только когда бричка уже грохочет но круглым бревнам мостика.
Лата говорит «Бог помочь!» и останавливает лошадь.
— До вечера еще успеете полодырничать, — шутит она. — Идите прощаться.
Мартынь сперва смотрит на Маду, затем идет к бричке. На ходу он моргает глазами и так кивает головой, словно ему кто-то при каждом шаге дает тычка в затылок. Сперва он подает руку Лате, потом Анцису. И затем, так же кивая головой и моргая глазами, идет обратно к брошенным наземь граблям. В его моргающих глазах, в том, как он кивает головой, во всех движениях, Анцис видит что-то коварное, издевательское…
— Ну будь здоров! — слышит он такой знакомый, милый голос и, не поднимая глаз, берет Мадину руку.
Рука холодная, немного влажная от пота, но он чувствует, что Мада ему во сто раз дороже Латы с ее лошадьми и поросятами. Хочется поднести эту руку к губам, прижать ее к своим воспаленным глазам, заплакать и сказать, что все это только блажь, дурачество, комедия… Но он не может выдавить из себя ни слова. Ни один мускул не шевельнется на его лице, и Лата, которая следит за обоими кошачьими глазами, видит только сердитое лицо с двумя поперечными складками на лбу. Она дергает вожжи, и Анцис отпускает влажную милую руку. Он уезжает…
Он уезжает, даже не оглянувшись на ту, которая ему дороже самой жизни…
Лошадь медленно поднимается по песчаному, заросшему можжевельником косогору. Лата необычайно повеселела. Дергает вожжи и понукает лошадь, временами подталкивает Анциса в бок, смеется, шутит, говорит без умолку… Но, не дождавшись ответа, она унимается и с самодовольной улыбкой тихонько затягивает:
— Через горы и долины — сердце вдаль зовет…
Анцис сидит неподвижно, в голове у него вдруг проясняется. Вся эта путаница мыслей и чувств осталась там, за песчаным косогором, за кустами можжевельника. Точно пробудившись от долгого, тяжелого сна, он смотрит и видит впереди свою разбитую жизнь, словно огромное, ровное, пустынное поле — без Мады, без любви, без счастья. Почему же это так должно быть, хочет он спросить еще раз, но заранее знает, что ответа не получит… И оставшийся без ответа вопрос тоже словно тонет и растворяется в холодном пространстве. Нехотя он слушает, как напевает Лата. Ее песня, словно грубая бесконечная нить, тянется сквозь самое сердце, и оно болит все сильнее.
А за мостиком, у дороги, против того места, где Анцис с Мадой так случайно встретились в прошлый юрьев день, Мада вдруг садится, опускает голову почти к самым коленям и закрывает лицо передником…
Встревоженный Мартынь подбегает к ней. Его глаза мигают еще быстрее, чем обычно.
— Что с тобой? Зубы болят? — озабоченно спрашивает он, но напрасно ждет ответа. — Зубы… гм, да… беда с ними. У меня тоже бывает, я их тогда золой из трубки… Зола помогает… У моей бабушки был всего один зуб во рту, и тот болел, как не знаю что… Уж она его и уксусом, и перцем, и порошками…
Беспокойно переминаясь, кивая головой и моргая глазами, он начинает длинный-предлинный рассказ о том, как его бабушка лечила больной зуб.
1904
Рисунок 2. Комедия в 3-х действиях1. ОТЕЦ
По утоптанному коровами прогону не спеша поднимается на пригорок человек средних лет. Чем ближе он подходит к дому, тем медленнее его и без того неторопливые шаги. Маленькие блестящие глазки начинают беспокойно бегать. Он невысокого роста, коренастый, с кривоватыми ногами, отчего походка его кажется особенно неуклюжей. У него большая голова с коротко остриженными волосами и рыжеватая, торчащая вперед бороденка. Широкое лицо и большие руки — не загорели, они совсем белые, и это никак не вяжется с его потрепанной пестрядинной курткой, старой, измятой шапкой и стоптанными, запыленными башмаками. Поднявшись на пригорок, он смущенно прячет руки сперва в карманы штанов, потом в карманы пиджака, опять вынимает их и, заложив одну за спину, а другую прижав к туловищу, идет к дому.
Хозяйка, завидев чужого оборванного человека, выходит во двор. Незнакомец останавливается и с минуту смотрит на нее.
— Добрый день! — наконец здоровается он. Когда он говорит, видны его большие желтые верхние зубы. — Жена моя дома?
— Ваша жена? — удивляется хозяйка.
— Моя жена… — повторяет он, не то сердясь, не то передразнивая ее.
Хозяйка с недоумением смотрит на незнакомца.
— Не знаю… А вы — кто такой?
— Я — Смилга, — говорит он, и голос его напоминает лязг трущихся друг о друга заржавленных железных брусков. — Дома… жена?
Хозяйка всплескивает руками.
— Смилга… Смилга… Из тюрь… Жена дома… понятно, дома. Сейчас кликну.
Она проворно кидается в дом, полное лицо ее выражает испуг. В кухне раздается громкий возглас:
— Смилгиене, муж вернулся!.. — Затем в окне хозяйской половины появляется несколько любопытных женских лиц, среди них и хозяйкино, слышен шепот:
— Арестант… конокрад…
Смилга все это слышит, но на лице его не двигается ни один мускул. Только пошевелив во рту языком, он по-цыгански, сквозь зубы, сплевывает в сторону.
Звякает ручка двери в батрацкую. На двор выбегает Смилгиене, крупная, до времени состарившаяся женщина и, вскрикнув, бросается мужу на шею.
— Вернулся… — всхлипывает она. — А я и не видела! Весь обед простояла на дворе, только на минутку домой забежала… дети подрались… А он тут и пришел… Муженек… Заждалась я тебя — два с половиной года жду. Чего только я не натерпелась, чего я… Ох, если бы ты знал! — Она, захлебываясь, целует мужа в бледные, впалые щеки и запекшиеся губы, руки ее все крепче обвивают его шею.
Смилгу раздражают женины нежности и лица, которые то появляются, то исчезают за окном. Мало-помалу в нем закипает злоба. Отвернувшись, он искоса глядит на двух мальчуганов и девчонку, выскочивших за матерью во двор.
— Пусти, ну чего ты! — сердито ворчит Смилга, пытаясь высвободиться из объятий жены, но это не так-то просто. Она прилипла к нему, словно репей.
— Муженек ты мой… не виделись-то как долго, — всхлипывает она.
— Эх, баба! — хрипит Смилга, отрывает руки жены от своей шеи и отталкивает ее с такой силой, что она едва удерживается на ногах. — Чего лижешься… Дай-ка лучше поесть.
Смилгиене испуганно смотрит на мужа, но радость сразу не уймешь. Женщина сморкается в уголок фартука, вытирает мокрые от слез глаза.
Смилга подходит к дому, садится на лавочку.
— Чьи это? — спрашивает он, показывая на сбившихся в кучу детей.
— Что? — удивляется жена. — Не узнал?.. Это же наши дети… твои…
Смилге становится как-то неловко, но от этого он злится еще больше.
— Два с половиной года, — бурчит он. — Ну, ладно, ладно, это я так…
— Смотри, какие большие выросли, — жена подталкивает всех троих к отцу. — Подите же, поцелуйте тятеньке руку.
Но дети боязливо прячутся за мать, девочка даже собирается заплакать. А отец, сморщив лоб, прячет большие руки в карманы куртки.
— Глупенькие! — жалобно говорит Смилгиене. — Отца не признали… — Она необычайно быстро мигает глазами и комкает фартук. — Ах, сколько я натерпелась с ними за эти два с половиной года! Аннеле все хворает и хворает, одну оставлять нельзя, а на работу идти надо… Надо идти — на этих двоих одного хлеба не напасешься — жрут как черти!.. Озоруют и дерутся — сладу с ними нет. Ну, теперь погодите! — трясет она головой. — Теперь отец дома, теперь вам достанется… Меня не слушались, а вот как возьмет отец ремень — клочья от вас полетят… Ты за них возьмись, — говорит она, кивая головой на мальчишек.
У Смилги руки в самом деле нащупывают туго затянутый поверх штанов ремень, на лбу у него собираются складки.
— Чего раскаркалась, как ворона! Поди собери поесть…
Солнце светит ему прямо в лицо. В карих глазах виден зверский, ненасытный голод. Кажется, этот голод много лет мучит его.
Смилгиене вздрагивает и сбивчиво тараторит:
— Поесть… ну да! Я тут болтаю и совсем позабыла, что ему есть охота, путь-то какой прошел. Сейчас посмотрю… Давеча мясо зажарила, и молоко… как бы не остыло… В плиту, правда, поставила… Сейчас посмотрю… сейчас! — Дырявая юбка бьет по ногам Смилгиене, пока она бежит в батрацкую. Оттуда давно уже доносится детский плач.