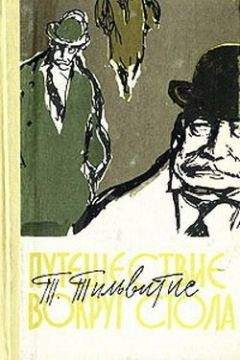Таня радовалась в душе. Подумать: гордый красавец Глубоких Криниц, не хуже Саньки красотой, робко идет рядом с ней. Таня понимала душевное состояние Кирилла и щадила его, боялась оскорбить честным признанием, что всего лишь пошутила, что он безразличен ей. Было даже немного жаль его, что так сразу поверил в ее слова, в ее веселый смех…
— Я тебя буду ждать, Таня. Когда ты приедешь? Я встречу тебя… — Кирилл так волновался, так боялся услышать отказ. Таня не решилась возражать. Зачем делать человеку больно? Да и самой было оприятн: ее все-таки кто-то будет ждать, она кому-то все же нужна! И кому? Самый первый парень на селе — Кирилл Носенко — будет встречать ее с автобуса! На виду у всего села!.. Пусть знает Белогривенко, что она не убивается по нем, что за ней ухаживают красивые хлопцы.
Таня улыбнулась, эта придуманная месть Саньке сняла с ее сердца какую-то тяжесть.
— Я приеду через неделю…
Так и повелось с тех пор: Кирилл встречал Таню каждую субботу на автобусной остановке. Когда она долго не приезжала, сам ехал к ней. И Таня начала привыкать к этим встречам и визитам. Понимала: так долго не может продолжаться, когда-то она вынуждена будет дать прямой ответ на его вопрос.
Запретила ему встречать ее, видеть. Начала прятаться от него и от односельчан. Полгода не приезжала домой. Целых полгода мук и страданий из-за той своей жалости…
Что ждало ее в будущем? Да, Санька навсегда ушел из ее жизни — Таня это знала. Она теперь никого не сможет полюбить. Никого. Никогда. Вот так и будет жить с пустотой в сердце. Без улыбки, без надежды. Будет швырять ее доля бесцельно по жизни, как осенний ветрище швыряет сухой, оторванный от ветки листочек тополя… Но потом это пугало ее: разве так может жить человек? Разве он способен тогда что-то полезное делать на этой земле? Во всяком случае, она не хочет так жить! Она должна иметь семью, детей, постоянные хлопоты.
Однажды осенним днем, когда холодный колючий дождь мелко сеялся над землей, Таня вышла из автобуса на своей остановке и огляделась. Ноги тонули в месиве чернозема. Тоскливо чернели стволы тополей, соломенные крыши и покинутые гнезда аистов. Осенняя грусть и чувство одиночества будто придавили ей грудь — трудно было вдохнуть, трудно двинуться с места.
— Я знал, что встречу тебя сегодня… — Из-под навеса автобусной остановки вышел Кирилл.
Таня от неожиданности оцепенела.
— Почему знал?
— Потому что не было тебя ни в прошлую, ни в позапрошлую субботу и раньше не было.
— А ты ждал?
— Ждал, Таня.
Нет, она все-таки была для кого-то радостью и надеждой! А может, это ее судьба?..
…Таня вбежала в хату и обессиленно прислонилась к дверному косяку, стараясь перевести дух.
— Кирилл… Откуда? Как же ты дошел сюда? Господи, бледный, а что это на тебе за одежда?
Щеки ее покрылись неровным румянцем. Тонкие брови болезненно переломились и сдвинулись к переносице.
— Ты… как же? Сбежал?..
— Что ты… Мы попали в окружение. Кругом танки. Железный поток танков! Всем нам путь перерезали. А что у нас? Голыми руками их не возьмешь, — и он показал свои забинтованные руки.
— Что же будем делать? Как будем жить? — Она села напротив него и заплакала.
— Не горюй. Как-нибудь будет. Я подлечу руки. Что-то буду делать. Выживем! — усмехнулся обнадеживающе своей красивой белозубой улыбкой и на миг превратился в прежнего красавца Кирилла.
Но Тане в его голосе послышалась беспечность. Выжить. И это все, чего он жаждет? А ты думала, он иной? Откуда ты знаешь, какой он? Что ты знаешь о своем муже? Теперь терпи, потому что он твой муж. Какой уж есть… Какой есть!..
Слезы хлынули из глаз, как щедрый летний дождь. Она сидела не шевелясь. Мокрый ватник был расстегнут, на плечах синела косынка. По-старушечьи сложены руки на острых коленях. Она вдруг состарилась, ссутулилась под тяжестью прожитого. Во всей маленькой согнутой фигурке — беспомощность и безнадежность. В этот момент она скорее почувствовала, нежели умом постигла, что одиночество навсегда вселилось в ее опустошенную душу, что не проросло в ней ни новой любви, ни даже умиротворения.
Кирилл не понимал тех слез: от радости они или от печали. Растерянно ерзал по скамье, затем молча подошел, принялся ласкать замотанными руками ее волосы, щеки…
Так и начали жить — каждый носил в душе свой мир, свои думы, не поверяя ничего друг другу.
Мотря Самойленчиха тайком смахивала слезу, врачевала зятю руки. Таня выискивала малейший, повод, чтобы уйти из дому, ходила по хатам, где были раненые да больные. А когда возвращалась, молчала, ничего не рассказывала, ни о чем не расспрашивала. Надвигала платок на брови, туго обвязывала голову и принималась что-то делать возле своего столика с лекарствами — растирала в ступке какие-то мази, готовила на водке какие-то растворы. Иногда просила мать достать ей еще бутылочку самогона, да желательно первача, чтоб как спирт был.
В один из таких печальных вечеров кто-то без стука скрипнул дверью в сенях. На пороге остановился, глупо ухмыляясь, Малеванец.
— Хе, сидите в хате и свет не зажигаете! Прячетесь, как хробаки. А я вас всех на солнышко, на солнышко! Га-га-га!.. Чтобы вы на людей поглядели и люди на вас. А? — И тем временем поглядывал в большое зеркало, перед которым стоял.
Зеркало совсем древнее, шашель источил коричневую раму, стекло покрылось желтыми пятнами и едва-едва в сумерках отражало живой образ человека. Иван нахмурился: что за зеркало хозяева держат, не видно ни высокой полицейской фуражки, ни новой шинели, перетянутой широким кожаным ремнем. Иван Нарижный нынче власть на селе. Зашел в гости — ему и стульчик пододвигают, и пылинки с него полотенчиком смахивают. А он захотел — помиловал, захотел — в список свой записал. Да он всех парней