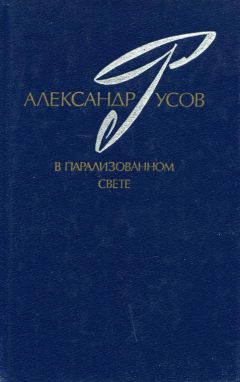Ты писал около страницы в день?
Да, что-то около того. За лето — восемь школьных тетрадей. Бабушка хранила их до самой смерти, непонятно зачем. Они и до сих пор, кажется, целы.
Когда Бабушка ушла на пенсию?
Я, кажется, уже говорил: в пятьдесят пятом. Ей исполнилось тогда семьдесят лет.
И по вечерам, особенно зимой, когда она затемно возвращалась с работы, ты каждый день встречал ее, потому что было скользко. Ты встречал ее у остановки троллейбуса № 3 — вот опять эта цифра 3, везет же нам на нее — встречал на той стороне Пушкинской улицы, почти напротив парикмахерской, где тебя стригли впервые и где ты стригся потом всегда, даже не догадываясь как будто, что в Москве существуют другие парикмахерские. А раньше тебя всегда стригла дома Мама. Ты бежал встречать Бабушку к определенному часу, хотя тебя об этом никто не просил, летел к ней на крыльях любви, как позже разве лишь на свидания с Индирой. И сердце стучало в груди. И ледок хрустел под ногами. Так продолжалось в течение нескольких лет, изо дня в день. Ты переходил улицу Горького у магазина «Рыба» и оказывался на той стороне, шагах в двадцати от Филипповской булочной, где вы обычно покупали хлеб. Во времена карточной системы там возле кассы в закутке на фоне желтовато-матовых стекол с вытравленным на них крупным растительным орнаментом постоянно маячили фигуры нищих в лохмотьях, погорельцев с малыми детьми на руках, изможденных стариков, обросших редкой щетиной. Ты приходил сюда с Матерью или с Отцом, и вы всегда отдавали им довесок мягкого, душистого хлеба, которым с утра до ночи благоухала булочная. И вот ты шел теперь на встречу с Бабушкой по той стороне улицы Горького в противоположном направлении от Филипповской булочной, доходил до Елисеевского, сворачивал направо, в Козицкий переулок, всякий раз сквозь высокие сводчатые окна любуясь сказочным царством сияющих люстр, гроздьями поднебесного света, праздником Елки, Москвы, Карнавала, волшебным за́мком, где был накрыт стол для всех. Потом ты разом погружался в сумрак и тишину Козицкого, в похрустывание снега, в такт шагам мерное покачивание узкой улочки с узкими тротуарами. Доходил до ярко освещенной и приторно пахнувшей парикмахерской, где за полупрозрачными стеклами сидели закрученные в бигуди женщины, проворно двигались вокруг черных кресел люди в белых халатах, сгибались, выпрямлялись, беззвучно щелкали ножницами над головами клиентов, поглядывали в зеркала, встряхивали в воздухе не очень свежими, со следами чужих волос, но аккуратно сложенными салфетками, приглаживали сильно выгнутыми ладонями чьи-то набриолиненные волосы, прыскали одеколоном, сжимая похожие на детские клизмы резиновые груши, отчего безвольно болтающийся внизу мешочек вдруг восставал, наполнялся воздухом, раздувался, едва удерживаемый веревочной сеткой, вокруг же головы клиента взвивался туман быстро оседающих брызг. В этой парикмахерской тебя впервые постригли машинкой на нет, причесав на косой пробор, когда тебе исполнилось шесть, а потом, перед самой школой наголо, и Мама заплакала, увидев такого уродца-головастика, а сам ты, взглянув в большое зеркало, впервые обнаружил у себя на землистого цвета гладкой голове белые полоски-шрамы: какой-то мальчишка, ты уже плохо помнил подробности, стукнул тебя когда-то несколько раз кочергой, — и вот ты глядел в зеркало, вертел головой, похожей на неправильный шар, и не узнавал себя, а Мама плакала… Миновав парикмахерскую, ты обычно подходил к самому краю тротуара и смотрел налево — нет ли машин, потом, дойдя до середины, поворачивал голову направо. В то время по Пушкинской — может, тогда она даже называлась иначе — машины ездили в обе стороны.
Часто ты приходил раньше времени и ждал у остановки третьего троллейбуса, прогуливаясь вдоль дома, переходящего в отштукатуренную желтую глухую стену. И вот вдали показывался троллейбус, похожий на трансатлантический лайнер, светящийся изнутри. Его обгоняли верткие автомобили, а он шел величественно и неумолимо, и было в этом движении что-то такое, от чего перехватывало дыхание. Когда троллейбус останавливался, ты с нетерпением заглядывал в переднюю распахнувшуюся дверь, откуда тотчас начинали вываливаться, будто фарш из мясорубки, люди. На первом троллейбусе Бабушка никогда не приезжала, и ты терпеливо ждал следующего. После третьего или четвертого пропущенного троллейбуса подспудное волнение начинало овладевать тобой, и в животе всякий раз возникало такое ощущение, будто объелся мороженым.
Бабушка наконец приезжала. Ты помогал ей сойти с подножки, брал под руку — чаще брала тебя она, — и вы медленно шли тем же путем домой.
О чем говорили вы по дороге?
Ни о чем. У Бабушки была эмфизема легких, а меня она просила не разговаривать на морозе, чтобы не простудился. Но мне ведь достаточно было и того, чтобы находиться рядом, чувствовать, как она опирается на мою руку, как неверно ступает ее нога на обледенелый асфальт, какая она тяжелая и легкая одновременно, как шмыгают в просвете улицы Горького машины, как искрится в слабых огнях фонарей выплывающий из небытия рано наступившей ночи редкий снежок.
Эти обязательные вечерние прогулки от остановки троллейбуса № 3 до нашего дома, находящегося на другой стороне улицы Горького в переулке, параллельном тому, где стоял дом Арже, запомнились мне навсегда и были, пожалуй, самыми счастливыми в моей жизни. Я шел домой с возлюбленной Бабушкой, нам не грозила разлука, и так должно было продолжаться в е ч н о. Мы входили в тепло натопленный дом (таскать дрова из сарая во дворе для печки-голландки было моей постоянной обязанностью), я помогал Бабушке снять тяжелое пальто, и тут иногда, может раз в неделю, она доставала из своего ридикюля нечто припасенное специально для меня — например, диафильм в круглой пластмассовой коробке. А однажды произошло чудо: днем к нам пришла в гости дальняя родственница и гадала на картах. Мне выпало что-то приятное, радостное, какая-то прибыль, и вот в тот же вечер Бабушка осчастливила меня очередным подарочком.
Неужели именно с тех пор стал ты верить карточным гаданиям, предсказаниям, прорицаниям?
Но ведь и правда чудо…
Как любила тебя Бабушка! Как любил ее ты!..
А декабрь был уже на исходе.
Можно сказать, он уже истек, приятель, пока мы тут с тобой предавались приятным воспоминаниям.
Так это значит…
Это значит, что всего несколько дней осталось до Индириного шестнадцатилетия и нужно поторопиться. Деньги-то у тебя есть?
Естественно.
Откуда?
Экономия на школьных завтраках, и Мама обещала десятку подкинуть.
По-нынешнему рубль?
Тогда большие деньги…
Словом, пора готовить подарок.
Какой? Вот в чем вопрос. Он ведь должен отвечать, соответствовать… И в то же время… Сам понимаешь…
Так что ты собираешься ей купить?
Еще подумаю…
3 января 1957 года в существующем и до сих пор маленьком цветочном магазине, как бы зажатом между громадой Елисеевского магазина и домом ВТО, ты купишь ей раскидистый куст живой белой сирени в корзине, как-то даже и не подумав сгоряча, куда ей деть его в той забитой до отказа вещами девятиметровой комнатенке. Но тогда лично тебя больше интересовали совсем другие проблемы, а именно — как сделать так, чтобы; а) ее родители и она не узнали имени отправителя цветов; б) чтобы она об этом все-таки догадалась; в) суметь потом проверить, что тебя в магазине не надули, цветы доставлены по нужному адресу и в назначенный срок. Каждая из этих проблем была, разумеется, грандиознее онегинской любви и куда кошмарнее, чем любая фантазия Гёте. Как уж ты там решил, Телелюев, эти свои проблемы, нам сейчас не столь важно. Гораздо важнее факт наличия в московском цветочном магазине тех далеких лет, в самую жестокую, можно сказать, пору господства Снежной Королевы куста свежайшей, источающей весь присущий ей колдовской дурман белой сирени. Разумеется, твой счастливый выбор вполне соответствовал, отвечал, гармонировал, выражал… ну и так далее — в том смысле, что это был единственный, может, оказавшийся в твоем распоряжении способ остаться самому в тени, обеспечив в то же время гарантированную доставку на дом. Хотя чем она гарантировалась, было неясно: тебе даже квитанции не выдали. Но заказ, правда, приняли, деньги взяли, записали адрес. И вот тут твоя дьявольская сообразительность влюбленного подсказала замечательный ход — выход из положения по пункту «в». Ты покупаешь Индире какой-нибудь самый обыкновенный подарок и заходишь поздравить ее — просто так, в порядке товарищеской отзывчивости, как соученицу и соратницу по ВЛКСМ — с днем шестнадцатилетия, чтобы пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе. И как тебе это было ни трудно, Телелюев, как ни стеснялся ты, хочу я сказать, ты со всем мужеством лучшего и в то же время типичного представителя молодежи тех лет позвонил ей на следующее утро по телефону и вполне бодрым голосом, в котором не звучало, пожалуй, панических ноток, попросил разрешения зайти на правах старого приятеля, с которым она участвовала в летних играх на первенство пункта Е по волейболу.