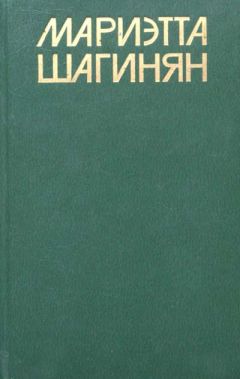Инженер беспокойно расправил листок пергамента и принялся его изучать.
— Предположи, что Юсс прав, — шептал Львов, — предположи, у нас на Бу-Ульгене найден металл, по силе подобный радию, чистый магнит или вроде того. Какая практическая польза?
— Польза? Если фон Юсс только на одну пятую, слышишь, на одну пятую прав и у нас есть на Бу-Ульгене нечто подобное, мы сможем покрыть всю страну электростанциями, стоящими не дороже, чем песочные часы!
Львов принялся молча укладывать в портфель рукопись и листок пергамента.
— Куда ты?
— В Кремль, — ответил Львов, — если поездка понадобится, готов ли ты?
— Стой, садись. Я должен досказать тебе. Вспомни Ильича: «Кто верит на слово, тот безнадежный идиот». Что ты понимаешь в технике, куда ты сунешься? Чем ты объяснишь? Кто тебе поверит? Десятки, сотни, тысячи ученых сидели над проблемой «перпетуума мобиле» — безостановочной машины. Знаешь ты, из каких морей фантастики выужен «якорь» динамо? Знаешь, сколько надежд было связано с магнитом? Естественный магнит колоссальной силы даст возможность чудовищных комбинаций, устройства ну хоть двух полей, перпендикулярных нашим полюсам, регулированья погоды, климата, вращенья Земли…
Он схватил лист бумаги, карандаш и стал набрасывать перед Львовым кружева фантастических чертежей, когда-то забавлявших его в безвыходном одиночестве Шлиссельбурга.
Город был голоден, беден, ободран, люди измучены, издерганы, заняты, дел было много неотложных, прямых, требовательных, и все же, вспыхнув в зрачках мечтателя и чекиста, странная мысль об экспедиции на Бу-Ульген встретила сочувствие более практичных людей. Заворошились листы бумаги. Полетел тайный приказ. Сквозь штыки белых необходимо было пробраться смельчакам, рискуя жизнью, — и об этом, по-видимому, отлично знали в шикарнейшем доме, подъезд которого, и швейцар которого, и флаг которого ограждали от ареста Дитмара, поднимавшегося сейчас наверх по ковровой лестнице. В этом доме чиновники-иностранцы отлично говорили по-русски. Этот дом, давший приют бельгийцу, был миссией одного из иностранных государств. Чиновник с петушиной головкой, в манерах и повадке пропитанный казенщиной старого Петербурга, сидел в канцелярии, принимая прошенья и заявленья. Перед ним были новоиспеченные бланки, толстое желтоватое верже говорило о солидности. Посетители подходили в порядке живой очереди. Они восстанавливали или устанавливали гражданство, получали пособия или визы, посылали или спрашивали письма. Родина их дышала здесь тонким воздухом контрабанды. В соседней комнате высокий молодой человек в визитке, стоя, попыхивал сигареткой. Его белокурая голова прилизана, голос еще не окреп, он был исполнен особого, исключительного уваженья к самому себе. В лихорадке больших возможностей, молодой человек стоял, мысленно переживая действия, как музыкант иной раз на губах, неслышно пузыря их, переживает сложнейшие оркестровые мелодии. В ящиках стола, связанные бечевками, небрежно лежали тяжелые кирпичи советских миллиардов, отпечатанных на заграничных станках. В стенных шкафах, окутанные и спеленатые, готовые переплыть желтые волны Рижского залива или трястись в новоиспеченных, лакированных вагончиках лимитрофных государств, береглись высокие ценности — добро Эрмитажа и Румянцевки, таинственная закупка из рук в руки, с глазу на глаз. Каждый человек — вор, — так хотел бы оправдать себя прилизанный молодой человек, — и воровство в сущности — да, воровство в сущности — разве не романтика это рыцарственных Крестовых походов? Где плохо лежит… плохо лежит, — какое меткое, движущееся, обязывающее выраженье! Хорошо, действенно построен русский язык. Как закричал бы, как оскорбился бы молодой человек в визитке, как взволновались бы мелкие лимитрофные государства, как хищно оскалились бы пасти акул покрупнее, если б легкий озноб молодого человека, его легкие, быстрые мысли, его легкое, радостное мироощущение стали бы на мгновенье ясными как для него самого, так и для всего хоровода их! Охраняя священнейший принцип собственности, переживали они в эти годы высокой температуры, ставя вне закона шестую часть света, — необузданную, сокровеннейшую, пьянящую и дурманящую — страсть из страстей, охоту из охот — клептоманию, страсть к воровству, стихию воровской безнаказанности. Одни рыскали там, где плохо лежали моря, суши и реки, леса и недра, границы и народности, сырье и рынки. Другие рылись рыльцами барсуков в обесцененных, плохо лежащих акциях, скупая и просто сгребая их пачками. Третьи, помельче, попроще, пьянели от старинных полотен, фарфора, персидских ковров, музейных картин, тайно вырезанных из столетних рамок и странными, грибными, плесенными людишками продаваемых среди грибов и плесени захолустных притонов, — о, воры платили ворам, платили настоящими и фальшивыми деньгами, пачками, связанными веревочкой.
Очнувшись, романтический молодой человек в визитке увидел, что он не один в комнате. К нему учтиво, хотя несколько снисходительно, с видом старшего брата, подходил высокий европеец в несомненном заграничном шевиоте, держа котелок в левой руке, а правую протягивая ему. Круглое личико прибывшего, розовое и гладкое на первый взгляд, с шеей, начинавшейся прямо оттуда, где следует быть подбородку, с длинным щербатым носом — бросалось навстречу улыбкой.
— Необходимо поговорить, — начал Дитмар, усаживаясь, стягивая с левой руки перчатку и бросая ее на дно опрокинутой шляпы, — совершенно конфиденциально, без свидетелей поговорить с вами!
На этом месте рукопись обрывается.Кик Б. ХайсаровИрина Геллере
КОЛДУНЬЯ И КОММУНИСТ
…and every thing is in conlrary with me…
Ch. Dickens. David Copperfield[3]Лес, из глубины показывается погребальная процессия, впереди две монахини со свечами, за ними несколько монахинь несут носилки с трупом игуменьи.
Монахини
(воют)
Ой, плачьте, плачьте, выплачьте глаза!
Оплакивайте, сестры, мать честную,
Оларию-игуменью! Нет боле
Заступницы, советницы святой,
Нет матери Оларии меж нами!
По келиям насыпали овес,
Коней поставили храпеть и топать,
На паперти огонь проклятый вздули
И корм в котлах варят для супостата…
О, горе, горе, горе православным!
Старая монахиня
Где выроем, Олария, могилу?
Где старые твои положим кости?
Глядите, сестры, точно восковые
И рученьки и ноженьки ее.
Не трогают ни тлен, ни хлад, ни сырость
Ее костей. Наплаканные веки,
Как полотно изношенное, белы,
И светится сквозь них живой, как будто
Горящий, зрак… О матерь, матерь, матерь
Олария. Восстань с одра, спаси нас!
Монахини кладут носилки на землю, достают заступы и роют могилу.
Старая монахиня
(уронив заступ)
Осиротели божьи храмы наши,
Укрыли нашу нищету леса.
Не мы ль не женскую несли работу,
Пахали, сеяли, взрывая камень,
К монастырю себе мостили путь?
Дивился нам, сестер не обижая,
Язычник-горец. А когда обитель
Меж зелени садов главой восстала,
Как утица всплывает из воды,
И разлила окрест благоуханье
Своих колоколов, — на зов умильный
К нам разве не сворачивал прохожий
И странник-пешеход не забредал?
Равно гостей монахини встречали,
По облику не делали различья,
Для каждого уху и хлеб душистый
Черница домовитая несла.
Молодая монахиня
Молчи! Довольно! Сеяли, пахали!
Зато теперь, безумная старуха,
Курятница, хозяйка, скопидомка,
Зато теперь и грянул божий гром
Над головами! Сеяли, пахали!
Подсчитывали выручку под вечер,
Гостей кормили! Нагребали кружку!
Не сеять, не пахать, а глохнуть, слепнуть.
Язык свой вырвать, руки отрубить
Нам надо было… О, куда бежать,
Куда бежать от мира!
Старая монахиня
Воздержись!
Скора ты старость языком порочить.
Труп матери Оларии не предан
Еще земле. Игуменьей тебя
Пока никто над нами не нарек.
Молодая монахиня