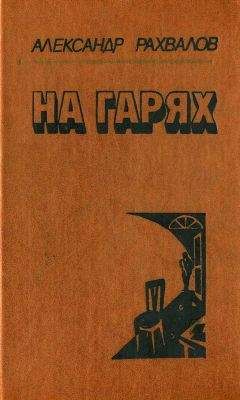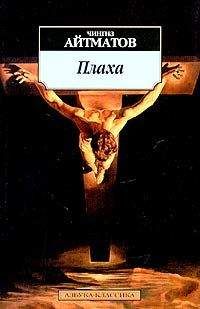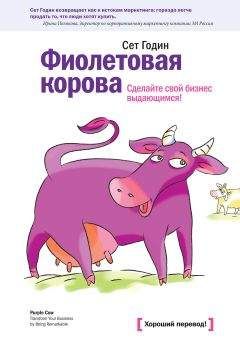Из пустых, казалось бы, овчинок, из шапок, заношенных до дыр, из воротников облезлых они умудрялись собрать, скроить и пошить такую вещь, что на городской толкучке их встречали едва ли не в воротах.
— А шапки шьете? — хрипели барыги, занявшие передние ряды. — Мех дадим, платить будем по-барски, а?
— Ну вас к черту! — отбивалась она. — Еще влипнем в какую-нибудь аферу. Нет, что вы, христовые! Я лучше сама, без оглядки на ворота…
А в ворота валил и валил горожанин и ориентировался на ходу, отыскивая глазами нужный товар. Чего тут только не было! Вязанье, шитье, колотье, резьба, чеканка… Сюда можно было принести трехмесячного ребенка и в минуту одеть и обуть его на любой вкус, а обратно увезти в чудесной коляске. Бабы торговали ковры, мужики — унты и полушубки, молодежь приценивалась к джинсам и кроссовкам.
Старьевщики жили скромнее: они раскладывали свой сапожный или портняжный товар-сырец на винных ящиках вдоль забора, опоясавшего пятачок. С ними-то и торговалась Клава.
— Почем рукава, отец? — спрашивала она, подходя к какому-нибудь старику, торгующему остатками тулупа.
— Бери хоть так! — старался выглядеть обиженным и беззащитным ветеран толкучки.
— Так нельзя, — отказывалась она наотрез, прекрасно понимая куда тот клонит. — Вот тебе полтора червонца… За оба рукава! Идет, отец?
— Да чтоб у меня последняя нога отсохла, — протягивал он товар неожиданному покупателю, — если запрошу лишку. Ты не приглядывай, а бери: мездра — куда с добром, хоть видец не ахти какой.
— Конечно, возьму. Не боюсь даже, — рассчитывалась она со стариком. — Хороший купец обманывать не станет, не то что эти — шушера! Правда, отец? Ты давай к следующей субботе готовь опять заготовку.
— Ну, дева! Ты меня разволновала, как рысака, — молодел он на глазах. — С тобой мы поладим. Смотри только, чтоб без мастырок.
— Не подведу… Люблю стариков, — хохотала она. — Со мной да в паре! Через годик будешь спать на матрасе, набитом деньгами. Веришь, отец?
Тихон помогал жене не только на рынке, когда продавали новую вещь, но и дома сидел подле нее. Потрошил старье, скоблил, мял овчинки, стараясь придать им божеский вид. После он собирал рукава, вырезанные по выкройке, и шил на руках.
Кроме стариков, торгующих на толкучке, выручали соседи, с которыми они наконец-то перезнакомились. Соседи несли ей негодные для носки полушубки и отдавали дешевле барыг, почти не торгуясь, хоть каждому была дорога лишняя копейка.
— Работаю, работаю, а ничего не имею, — шипел Тихон, ковыряясь в овчине. — Кому ты все спускаешь? Сыночку своему, что ли?
— Какой все-таки ты… У, змей!
Сыну она в этот год и копейкой не смогла помочь, но не мучилась, потому что знала: в училище он на всем готовом. Заботится о таких государство: не инженеры — рабочие люди нарождаются… И молчать ей приходилось, подавляя вспыхнувшую ярость. В этом молчании она думала о дочери, о внучатах, хотя и о сыне наболело сердце, будто предчувствовало неладное. Тот не ехал… Все теперь, думалось ей, удирают в города повеселей. Что-то есть в этом необъяснимое: живут в селе, все имеют, а удирают нищенствовать! Ни жилья, ни поддержки со стороны, но живут, урча животами, перебиваются с воды на хлеб, и ради чего-то терпят… И все — ближе к суете, к жгучему ядру муравейника.
Недавно видела его во сне… Сын проходил по какой-то грязной улице среди серых домиков без единой печной трубы, а во всю его спину красовался коровий «блин». Она подбежала к нему, хотела сорвать блин, но он не позволил, устало проговорив: «Присохло, мать. Теперь и ножом не отскребешь. Поздно, родная!»
С утра к ним шли, как к старьевщикам. Опять кто-то постучал в дверь.
— Здравствуйте, добрые люди! — вошла крупная цыганка, толкая поперед себя сопливых ребятишек. В глазах — дерзость, вот пойдут шнырять по углам.
— Проходи сюда, — отозвалась хозяйка. Тихон вышел на веранду покурить. — С чем пожаловала, красавица ты моя?
— Клава, смотри, какая овчина! — развернула та потертую полу от полушубка. — Хоть парик шей! Дети спали — не прописали ни разу. Ты уж поверь мне, дуре.
— Дай-ка самой взглянуть.
— Смотри, смотри! — тараторила цыганка, но не спешила показывать товар. — Дорого не прошу: тридцатку навернешь детишкам на хлеб — и на том спасибо! Ох, горе с ними, горе.
— Мездра слабая, — присмотрелась хозяйка. — Развалится, а ты говоришь — тридцатку.
— Господь с тобой! Посовестись перед детишками хоть, — обиделась цыганка. — Развалится… Ну!
Клава покачала головой. Ей всегда было непонятно: зачем человек врет в глаза? Вот хоть с этой овчиной… Видно, считает, что чужому человеку можно врать, выпячиваться перед ним по-петушьи: все равно он не знает тебе истинную цену! Неужели мы все настолько чужие, что человек человеку при встрече руки не подаст?.. И вот врут в глаза, вот врут.
По ее суждению, человек входит в жизнь, как молодой петушок — во всей красе, при всех достоинствах. Потом его потихоньку ощипывают бывалые петухи, чтобы не выпячивал грудь, не отличался от них.
Но что говорить о человеке, если даже весна обманчива, как цыганка. То печет, то подмораживает, то дождит… Капитан Ожегов давно уж не показывался в Нахаловке, запутался, наверное, в новых делах, а может, даже уехал отдыхать куда-нибудь на юг. И вправду, не железный, не ломовик в телеге…
Тихон, загоняя в стайку свиней, кричал на весь двор. Но Клава не прослушала, как звякнула железная «собачка» на воротах, в которых показался старик.
— Тащится, старый пень, — проворчала она. — Прокис весь, чавкун, сгнил. И как так можно жить! Один другого краше…
И таких людей она не понимала, что, дожив до пятидесяти лет, ни разу не споткнулся нигде, зато после пятидесяти — всмятку. Какой уж там возраст мудрости… Старик жил в одной избушке с бичами. Он был слаб, чтоб воевать за свой кусок на свалке, потому кормился в новом микрорайоне города, перетрясая на заре мусорные ящики, пока их не увезли на свалку. Посуду он сдавал в приемный пункт, а овчину приносил соседке. Так и жил в тревогах, опустившийся донельзя.
— Здравствуйте! — кряхтя, вполз он в прихожую. — На улице такая сырость, что коляску не своротишь с места, язви тя. Не идет по глине. И кашляю… Вот тут, под ребром этим, — жаловался он с порога, — гудит, как будильник. Не могу.
Хозяйка, повернувшись вместе с табуретом, осуждающе посмотрела на соседа.
— Бедный, бедный старик! Трудится так, что и в поликлинику некогда забежать ему, в две смены на станкостроительном, надо думать, вламывает. Бедный, надсаженный весь… Ну, проходи! Чего стоишь, нагнувшись, будто в штаны навалил… — предложила она табуретку нерадивому старцу. Голос был у нее грудной, мягкий; послушать было приятно, а уж поговорить — и мертвый кивнет в ответ.
Старик отказался от приглашения.
— Пожалуй, накладешь… Сырость. По глине, — как бы оправдывался он, — ползешь, как блоха. Язви тя!
— Вот я чему поражаюсь, дядя Миша, — не посочувствовала она ему, — вот чему… Сроду ничего не жрешь, валяешься на сырой подстилке в своей берлоге, если те алкаши под пьяную руку не вышвырнут во двор, а какая рожа! Лоснишься даже, как сытый конь. А, дядя Миша? — расхохоталась вдруг она. — Поведал бы мне секрет долголетия. Заплачу по совести. А?
— Да отвяжись ты, репей! — кряхтел тот. — Чего привязалась к семидесятилетнему старику? Никаких секретов, до смерти — четыре шага…
— Да тебя паралич не возьмет. Путного бы человека…
И сбилась, вспомнив, кажется, ни с того ни с сего, прошлую осень. Тогда они три дня кряду засыпали стены, а дождина валил… И, видать, прохватило ее наверху, слегла. К вечеру стало хуже, думала, что умрет, потому и позвала к себе Тихона, который крутился возле «железки»:
— Мертвые не приказывают, а хочется: продай домик, как закончишь, и отвези меня на родину. Приодень прежде, чтоб не стыдно мне людям в глаза… Там не любили таких… — Тихону показалось, что она бредит. — А то дед скажет: это что за оборванка рядом легла? Ленющий народ, голь… Я не помню такой внучки! — бредила она. — Я знаю: и мертвую не простит за такую нищету. А ведь как обидно, как обидно — всю жизнь работала, а ничего не имею, даже приличного платья… На день похорон… Позорище какой… срам… Не топи больше, не топи… Ты меня сожжешь…
Тихон приподнял крышку подпола над головой и вынырнул, как из проруби. На дворе бродил дождь, по-стариковски ворчливый и неопрятный. После того как Тихон прибежал в диспетчерскую гаража и позвонил по ноль-три, прошло два часа… Через два часа прикатила «скорая». А через два дня Клава встала на ноги и еще злее, упрямее налегла на работу. Умирать больше не хотелось, умирать в нищете, когда тебе и пятидесяти нет…
— Щеки у тебя, дядя Миша, скоро лопнут, — вернулась она к разговору со стариком. — Вот помянешь мое слово, когда лопнут.