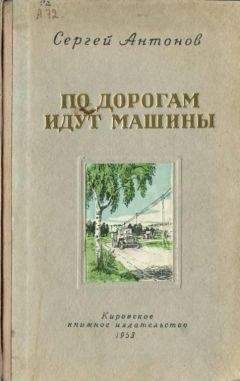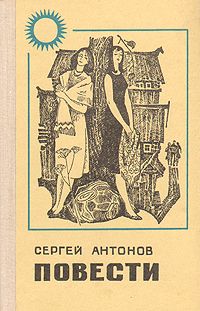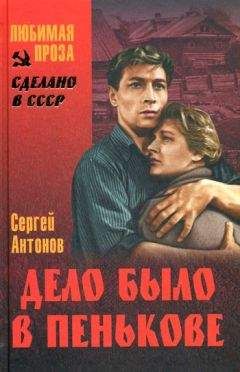Мы шли, а мимо нас, как ветер, проносились машины, освещая фарами гладкую дорогу, сугробы, окна и палисадники.
И я вспомнил, что Герасим до войны был шофером и ездил на такой же машине и в Бабино и в районный центр, город Остров.
И я вспомнил еще, как однажды к нему приехал доктор Харитон Иванович и ругался.
Доктор ругался за то, что Герасим со своей больной ногой садится за газик и ездит по двору базы МТС.
— Запрещаю! — сердито говорил доктор. — Совсем без ноги останетесь! Запрещаю! Идите на сидячую работу!
— Зачем мне на сидячую, когда я водитель, — чуть не плача, говорил Герасим.
— А вы смотрите! — говорил доктор дяде Феде. — К машине не подпускать! Беречь людей надо!
Он тронул своего Серого, подъехал к воротам и, обернувшись, крикнул еще раз.
— Смотрите! Не подпускайте! — и погрозил дяде Феде пальцем.
А другой раз дядя Федя и Герасим стояли нос к носу и кричали друг на друга так, как будто между ними была река, метров на сто.
Я думаю, что Герасим все-таки наловчится управлять машиной одной ногой. А если не наловчится, так я попрошу дядю Федю приделать для него к полуторке какую-нибудь особенную ручку, чтобы ногой и вовсе не надо было бы работать.
Мы дошли до избы дяди Феди, попрощались с ним и пошли домой.
Мама уже спала. Мы с Лешкой забрались на печку, и я подумал, что теперь ему можно убегать в районный центр, город Остров: теперь никто не скажет, что он ходил на базу МТС.
Через час я услышал, как Лешка потихоньку слезает с печи. Он слез с печи, пошел к сундуку и стал в нем рыться. Потом вышел в сени и начал что-то там делать.
«Ну вот, сейчас он и убежит», — подумал я.
Но Лешка снова вошел в избу и забрался на печь.
— Чего ты ревешь? — спросил он шепотом.
— А я и не реву. Больно мне нужно реветь. Беги, если хочешь!
— Я не побегу. Не бойся.
— Конечно не побежишь! Засну — и побежишь. Знаю.
— Правда не побегу.
— Не ври уж. Я ведь слышал, как ты в сундук лазил.
— Так я туда ботинки папины обратно поклал. Я так думаю, не надо мне бежать. Докторское дело не по мне. Что это за работа?
— А доктору-то кресло ставят! — сказал я, сам не знаю зачем.
— Ну и что же, что ставят. Вот мне бы такое дело найти, которое меня бы, как Герасима, схватило… Тогда да! Тогда бы я не только в Остров — я бы до Москвы добег. Верно?
Я ничего не ответил. Откуда я знаю, чего ему надо.
А по потолку опять проползает белый след окна, тихо звякает дужка ведра, и машины идут и идут по дороге…
1948.
Была глубокая ночь. Павел сел в трамвай и поехал на завод.
Только что он проводил на поезд мать, гостившую две недели, и то ли оттого, что стояла темная, ненастная ночь, то ли оттого, что в Вышний Волочок уехала мама, — настроение у него было грустное.
Трамвай делал последний рейс. Неповоротливая в своей толстой шубе, туго опоясанная старушка-кондукторша, привалившись, дремала в углу. Два парня в брезентовых шапках, похожих на рыбацкие зюйдвестки, сидели возле нее. «Метростроевцы», — догадался Павел. Немного подальше клонился набок и испуганно просыпался железнодорожник с погонами-балалайками.
Спать Павлу не хотелось, и он, низко надвинув на лоб козырек кепки, переводил глаза с одного пассажира на другого, лениво угадывая, кто они такие, где работают, куда едут в такой поздний час.
Напротив него сидел мужчина в пальто с потертым воротником. Маленькая смешливая женщина держала его под руку и что-то шептала ему на ухо. Мужчина усмехался устало и снисходительно и изредка говорил. «Да, но ты же знаешь, я вечером занят, милая…», «Да, но в воскресенье у меня комиссия…» Женщина убеждала его в чем-то и поправляла на его шее полосатый шарф.
«А она о нем заботится, — размышлял Павел. — Наверное, ему хорошо с ней. А чего в нем такого? Ничего в нем нет. И виски седые, и уши какие-то волосатые. Глаза вот только умные. И рот упрямый. Наверное, на работе дает жизни. За это она и заботится».
Трамвай шел. Медленно возникали за черными окнами мутные пятна фонарей, и тогда мокрые, сплошь усеянные каплями стекла блестели, как мятая фольга. Фонари так же медленно исчезали, и стекла снова становились черными, гладкими. Смешливая женщина, наконец, замолчала. На остановках никто не входил. Парень в зюйдвестке взглянул на Павла, увидел в его руке сверло и, видимо от скуки, спросил:
— Победитовое?
— Победитовое, — ответил Павел.
Парень вздохнул, хотел спросить еще что-то, но раздумал.
А трамвай все шел и шел, спотыкаясь на стыках, и темная пасмурная ночь стояла за окнами.
«А ведь хорошо! — уютно поежился Павел, чувствуя, что вот он, шестнадцатилетний парень, в ватнике и вымазанных маслом штанах, свой среди этих людей, что все они считают его настоящим, нужным человеком. — Хорошо!»
Ему вдруг захотелось казаться утомленным и озабоченным, таким, как этот мужчина с седыми висками, и размышлять о важных делах. «Надо бы на станок эмульсионный насос приладить, — стал думать он, сделав сердитое лицо. — Васька Цыганок приладил, и у него чуть ли не вдвое быстрей пошло…»
Ему представился цех, шлепающие по шкивам приводные ремни, ехидный мастер Тихон Михайлович. Этот мастер другим ребятам, когда надо, и выговор влепит и начет сделает, а если у Павла что-нибудь случится — только языком поцокает. И когда приехала погостить мама, так он без всякого приглашения пришел к ней, и они говорили о Павле так, как будто ему пять лет. Сейчас мама едет на поезде в Вышний Волочок, в комнату, оклеенную зелеными обоями. Там, в комнате, стоит комод с тяжелыми ящиками, а в среднем ящике она прятала конфеты…
«Ну, вот еще! Конфеты!.. — спохватился Павел. — Надо думать про насос, а не про конфеты…»
Трамвай остановился. Не открывая глаз, кондукторша дернула за шнурок и проговорила: «Следующая — Обводный». Обводный давно проехали, но никто не стал поправлять ее.
В вагон вошла девушка в белом пуховом платке и цыгейковом жакете. Жакет был короткий, и концы платка виднелись из-под него.
У двери она отряхнулась, и большие серые куски снега, похожие на постный сахар, отламываясь, стали падать с ее воротника.
— Глядите-ка, снег! — сказала кондукторша. — Зима пришла. Наконец-то!
Все зашевелились. И железнодорожник, и парень в зюйдвестке, и женщина стали протирать стекла. Мужчина с седыми висками надел очки и, заслоняясь от электрического света ладонью, неуклюже повернулся к окну. Кондукторша тоже стала смотреть на улицу, и лицо у нее сделалось такое, словно она подглядывала в щелку.
Мостовая гладко белела. Вокруг мутных фонарей возникли радужные сияния, и в голубых конусах света вверх и вниз метались пушистые клочья снега. Проехала эмка с белым верхом, оставляя за собой две черные полосы. Густо валил первый снег.
Девушка зубами стянула рукавицы, взяла билет и села. До Павла донесся свежий запах сырой шерсти. Он покосился и увидел над поднятым воротником красное ухо с дырочкой для сережки, влажный карий глаз и прядь темных волос, налипшую на висок. И лицо и платок — все было усыпано каплями растаявших снежинок, и даже на брови лежала продолговатая капля, поблескивая ярким фиолетовым блеском.
Павел отвел глаза.
«Так вот, насос, — заставлял он себя думать и хмурился, — насос надо обязательно поставить так же, как поставил Цыганок. Цыганок хитрый — увидел на токарных станках и стащил. Надо бы и мне поглядеть на токарных…»
Он чувствовал, что девушка смотрит на него, и это его сбивало.
«А если на токарных не найду, скажу Тихону Михайловичу, пусть где хочет достает, раз он мастер. А не достанет — в комитет комсомола пойду…»
Ему показалось, что девушка разглядывает теперь черную заплатку на рукаве его ватника. Он резко повернул голову…
Она, оказывается, и не собиралась смотреть. Она сидела чуть боком к нему и читала книгу.
«Подумаешь, не смотрит!» — Павел немного обиделся.
Он медленно обвел взглядом ее всю, начиная с пухового платка и кончая ботиками на застежках, готовый иронически усмехнуться. Но ничего такого, над чем можно было бы усмехнуться, в девушке не было: она сидела холодная и красивая, пропахшая свежим запахом первого снега, и читала.
Павел бросил взгляд на книгу и прочел первое попавшееся:
«Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал…» — дальше было написано по-немецки.
«Войну и мир» читает. Подумаешь!» — все-таки усмехнулся Павел.
Между тем пассажиров становилось все меньше и меньше.
Вышел один из метростроевцев. Вышли мужчина с седыми волосами и его жена. Парень, который спрашивал Павла про сверло, еще раз взглянул в окно и зевнул. Ему было скучно.
— Сверловщик? — спросил он Павла.
— Сверловщик.
— Вот бы тебе у нас работать. Нам металлисты нужны.