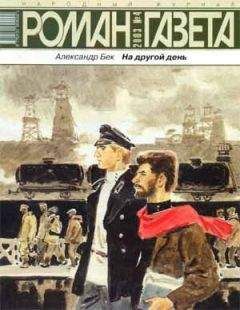В доме было несколько выходов и потаенный лаз из погреба. Эта мастерская, пользовавшаяся отличной репутацией среди тифлисских модниц, служила убежищем для скрывающихся подпольщиков. Там в какую-то пору, как позже узнал Кауров, приютился Коба.
Като тогда была девочкой лет пятнадцати-шестнадцати. Однако возраст отроческой угловатости для нее уже миновал. Ладно сложенная, миниатюрная, гибкая, легкая на ногу, она поневоле привлекала взгляд. Краски кругленького чернобрового лица смягчались матовостью. Изогнутый рисунок губ усиливал впечатление женственности. Волосы вились. Нешумливость сочеталась в ней с веселым нравом. Каурову запал в память звонкий ее смех.
Но однажды Кауров заметил на ее шее тоненькую серебряную цепочку. И, по своей прямоте, спросил:
— Като, что это у вас?
Она без жеманства потянула цепь, достала маленький крестик, видимо, теплый, хранивший теплоту груди. И опять опустила. И твердо посмотрела на Каурова. Он удивился. Эта девочка, значит, не свой брат. Растет в революционной семье, а верит в Бога. Какие-то нити незримого общения порвались — такова была нашего Вано прямолинейность.
И еще ему запечатлелось. Подошла Сашико, наверное, все подмечавшая, и, разумея Като, уже куда-то ускользнувшую, сказала:
— Настоящая грузинка. Ищет самоотречения. Самоотверженная.
Теперь, два года спустя, Кауров снова встретил маленькую Като. Встретил уже спутницей неколебимого Кобы, матерью его ребенка.
Гость и хозяин обедали, а Като, скромно отойдя в сторону, готовая услужить, наблюдала. Одна ее коса была уложена вокруг головы, другая, как принято в Грузии, свисала, перекинутая через плечо.
Вдруг одно ничтожнейшее обстоятельство мимолетно озадачило Каурова. Ногой он случайно задел что-то под столом. Там от неловкого этого движения как бы звякнула тарелка. Или, может быть, блюдце. Неужели тут еще обитает кошка? Эти мысли, впрочем, пробежали, не задерживаясь, не оставляя следа.
В какую-то минуту младенец, не просыпаясь, заворочался, зачмокал. Коба крикнул:
— Эй, угомони!
Като мигом кинулась к сыну, склонилась над ним, покачала люльку. Теперь на юной нежной шее Кауров не увидал цепочки наверное, с Богом, «иже еси на небеси», уже было покончено.
Вскоре малец опять ровно задышал. Като вернулась на прежнее место, снова стояла, обратив на мужа сияющий, исполненный преданности взгляд. Казалось, она со счастьем ждала новых повелений.
Поглощая чахохбили, Коба не забывал потчевать гостя:
— Като, положи ему еще!
— Не надо. Это мне, ей-ей, достаточно.
— Что, разве не вкусно?
— Вкусно, У твоей Като золотые руки.
— Ежели хвалишь, так хвали делом, не словами. Ешь.
Гость не обидел хозяйку, покончил и с добавкой. Коба ел не спеша, — той жадности, с которой он когда-то в кутаисском духане поглощал куски мяса, теперь в нем не замечалось. Отодвинув тарелку, опустошенную отнюдь не дочиста, он достал из кармана недорогой портсигар, раскрыл:
— Того, закуривай! Это у меня своей набивки папиросы.
Коба курил еще в свою бытность в Кутаисе. Ныне жена приготовляла ему папиросы дома. «Своей набивки» — это, разумеется, значило: набивала Като.
Кауров проговорил:
— Здесь же ребенок. Не надо тут дымить.
— Вытерпит. Приучен. Потом проветрим.
— Нет, мне сейчас курить не хочется.
— Скажи пожалуйста, какой благовоспитанный! Като, спички!
Она мгновенно подала спички и опять скромно отдалилась, блюдя семейную обрядность патриархального Востока.
Коба сидел, откинувшись на спинку стула, выпуская дымок изо рта и из ноздрей. Глаза были полузакрыты нижними веками. Не верхними, а именно нижними, как это свойственно иным кавказцам. Сегодняшнее отличное расположение духа не покидало его. Он будто жмурился на солнышке. Ему была уготована непрестанная жестокая борьба, за ним охотились, впереди маячили неминуемые новые скитания, тюрьма, но здесь, в глинобитном домишке, нашлась для него некая затишь, которую устроила эта маленькая бессловесная счастливая в самоотречении женщина.
Кауров опять ненароком тронул ногой скрытую под столон какую-то посудинку. Черт побери, что же это такое? Детский горшок, что ли?
— Хочу посмотреть вашего дитятку. Можно?
— А я посмотрю газету. Можно? — весело ответил Коба.
Малыш мирно спал. Черные волосики отливали, как и у Кобы, рыжиной. К зыбке подошла и Като. Гость, присев на корточки, бережно поцеловал крохотную теплую ручонку Яши.
Поднимаясь, Кауров непредумышленно, боковым зрением, вдруг увидел под столом не скрытую отсюда скатертью тарелку с чахохбили. Поперек тарелки лежала вилка. Ом тотчас понял: его стук застиг Като за совместным с Кобой обедом. Иона вскочила, спрятала второпях свою тарелку, дабы никто посторонний не подумал, что она позволила себе нарушить кавказские предрассудки.
Возвращаясь от Кобы, Кауров размышлял о картине быта, которую только что увидел. Несомненно, Като пойдет, всюду пойдет за своим избранником. Будет шить, выколачивать иглой копейку, будет носить ему в тюрьму передачу, последует за ним в ссылку, на край света, куда угодно.
…Ей, однако, выпала иная доля. Като в том же 1907 году умерла. Она пробиралась вместе с Кобой, вместе с ребенком в Тифлис, выпила в дороге сырой воды, заболела брюшным тифом, который ее, восемнадцатилетнюю, скосил.
Коба похоронил жену в Тифлисе. Сохранилась фотография: он стоит со свечой у ее открытого гроба.
Много времени спустя он заговорил о ней с Кауровым. Это случилось уже в Петербурге. К этим их петербургским встречам и ведет наша история.
Долгая оседлость — не удел революционеров. Кауров, став студентом в Льеже, со второго курса возвратился в неодолимо влекущую Россию.
В Петербурге он с охотой продолжал отбывать свою студенческую вольную повинность на физико-математическом факультете университета. И состоял членом немногочисленной, себя почти не проявлявшей в ожидании лучших времен университетской социал-демократической группы.
Однажды мартовским днем 1912 года в послеобеденный час, что выдался редкостно ясным, Кауров в студенческой тужурке, в форменной, с синим околышем фуражке шел по Невскому. Петербуржцы разных возрастов, чинов и состояний, обитавшие в центральной части города, выманенные из домов солнцем, заполонили любимый проспект.
Не замечая, как порой в него стрельнет та или другая пара женских глаз, о чем-то размышляя, серьезный юноша — впрочем, пожалуй, уже и не юноша: ему исполнилось двадцать четыре — шагал по привычке быстро. И вдруг донеслось:
— Того!
Может быть, ослышался? Его же никто в Петербурге так не называл. Он усмехнулся этой невесть откуда взявшейся слуховой галлюцинации. Но вот снова:
— Того!
Кауров приостановился, обернулся. Сзади, шагах в десяти, тоже остановился какой-то оборвыш — низенький, всклокоченный, с охватившей лицо черной растительностью. Публика Невского обтекала его, а он смотрит на Каурова и улыбается. Улыбка дружеская, радостная. Прорези глаз сужены приподнявшимися нижними веками. Конечно, это Коба! Поверх черной блузы был надет вытертый лоснящийся пиджак. А брюки! А ботинки! Этот его вид был точно отрицанием приличий Невского проспекта, вызывающе дисгармоничным. Кауров к нему кинулся:
— Коба, здравствуй. Откуда ты? Как сюда попал?
Коба не без юмора ответил:
— Немного надоело отдыхать в благодатной Вологде. Срок еще не вышел, но.
— Как же ты решился прийти на Невский?
— Ни одна явка не годится! Такой-то выбыл, такой-то и вовсе не проживал. В третьем месте около подъезда слоняется несомненный шпик. Понимаешь, ни одна. Ну, и шляюсь, поглядываю, не навернется ли знакомый? И — вижу тебя!
— Пойдем, пойдем, Коба, отсюда.
Они зашагали. Миновали Аничков мост. Там, возле отлитых в бронзе, которая чугунно почернела, рвущих удила коней, обуздываемых укротителями, стоял на посту городовой. Коба придержал Каурова, полюбовался изваяниями.
— Сильная штука! — сказал он.
— Идем. Это место опасное. И к тому же несчастливое. Вот в этом доме на верхнем этаже был взят Желябов.
Коба опять умерил шаг, оглядел дом, в котором, как и во времена Желябова, помещались меблированные комнаты, или, по петербургскому выражению, меблирашки, вытащил из кармана пачку дешевых папирос.
— Того, закурим.
— Только не здесь, а то…
— Почему не здесь? Опасность, как известно, стихия войны. Мы в этом море плаваем.
Подчиняясь. Кауров тоже сунул в зубы папиросу. «Черт побери, подумал он, глядя на Кобу. Хладнокровен, как рыба». Но, будто опровергая эту мысль, Коба неожиданно продекламировал:
— «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!» Знаешь, это чье?
— Кажется, Уитмен…
— Я должен признать тебя истинным интеллигентом.