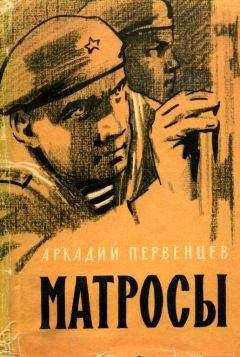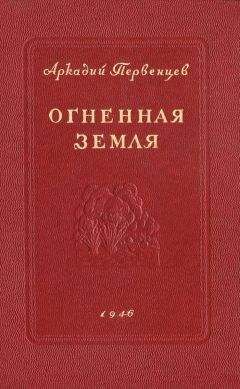— Люди доверили тебе дело, а ты гарцуешь, — упрекал Камышев Помазуна. — Ты же не с меня жилы тянешь, а с народа. У нас же колхозная касса, а не золотое дно…
Помазун прошел в конюшню.
— Что же вы тут накомандовали, товарищ председатель? Не понимаю ваших идей. Сняли доски с пола и приказали наводить лоск отсталым конно-артиллерийским способом. Трамбовать буфером?
Камышев, ни слова не говоря, взял одну из досок за край, приподнял:
— Ну-ка, потопчись.
— Зачем?
— Потопчись. Вообрази, что ты конь.
— Можно вообразить. — Доска под Помазуном затрещала. — Тонкая, считаете? Вижу, нужна толще. Нет материала, Михаил Тимофеевич.
— Тем более один выход — трамбовать… Удобнее, дешевле и копыту мягче.
— Так. Прошу извинить! А кормушки зачем разорили?
— Высоки для молодняка. Будут тянуться и прогибать спину. Кость-то молодая!
— Так… А если низкие?
— При низкой кормушке у молодняка будет нормально развиваться позвоночник.
— Предположим.
— Не предположим, а так точно.
— Что же мне теперь делать?
— Если не знаешь, надо спрашивать, учиться. А не хочешь учиться, начинай с конюха.
— Конюхом? Нет! На такой червяк Помазун не клюнет. Я лучше в цирк пойду.
— В цирк? — Камышев изумленно развел руками. — Неужто ослышался?
— Не ослышались, Михаил Тимофеевич. Могу сообщить прискорбную новость. Меня уже два раза в цирк приглашали.
— Что же ты там будешь делать? Коням хвосты крутить?
— Джигитом буду. Один раз выступил — и сто семьдесят пять рублей в карман.
— А если в месяц всего два раза выпустят?
— Ну нет! Договор! Не менее десяти сеансов.
У Камышева щелочками сузились глаза, кожа на лице собралась гармошкой.
— А слонов тебя не приглашали дрессировать?
— Я джигит, не дрессировщик, — менее вызывающе ответил Помазун. — Вольтижировка — да… Тоже могу… На мотоцикле могу…
— Тебя там совратят.
— Как?
— Водку научат пить.
— Кто кого, не знаю, — Помазун осклабился.
— Из колхозного быта — в цирк!
— А что цирк? Советское учреждение… Цирк — массам!
— Брось ты придуриваться. Противно слушать! — резко оборвал его Камышев. — Пойдем, Петр, дальше. Всех его фантазий не переслушаешь…
Кирпичная кладка еще пахла цементом. Накрывали волнистым шиферным листом последние звенья кровли. Надвинув на лоб папаху, Камышев водил за собой Архипенко и влюбленно рассказывал ему обо всем. Показывал фундаменты второй конюшни, дома для конюхов, колодец с глубинным насосом.
— Хотел с вами в станицу, а придется ехать на зернохранилище. Надо прекратить термическую обработку посевного зерна… Думал, ветер дождь нагонит, а ветер оказался сухой, загубит материал. При дожде можно мокрое протравливание, а по такому нудному ветру — только сухое.
По дороге схватывалась пыльная вихревка.
— Может, я смотаюсь на зернохранилище? — предложил Помазун, видимо решив идти на мировую. — Все ваши приказания передам.
— Смотаешься? На чем?
— Ясно на чем. На кабардинце. Разом домчит!
Камышев с состраданием посмотрел на мягкие козловые сапоги Степана, на потертые его штаны с желтыми леями, заметил, как нетерпеливо играет он плетью и хищнически-страстно присматривает себе кабардинца у коновязи.
— Урок не пошел на пользу.
— Конфузите, Михаил Тимофеевич?
— Кони-то племенные, матки, а?
— А как же джигитов воспитывать?
— Вот так и воюю с отсталостью! — незлобно сказал Камышев и безнадежно махнул рукой. — Давай линейку! Распорядись.
Камышев присел на корточки, угостил Петра горстью подсолнуха.
— Значит, на следующий год точно ждать тебя, Петька?
— Точно.
— У тебя прежняя специальность? Сигнальщик?
— Да.
— Специальность для нас непригодная. На тот год радиостанцию получаем, узел расширяем, телефонизируемся. Тебе бы радиотехнику изучать. Специалисты не только по зерновым или кенафу нужны… — Председатель пока не проговаривался о своих планах использовать Петра в животноводстве.
«Ладно, — думал Петр, — планируй как хочешь, у меня еще есть флотский год в запасе».
Камышев ставил в пример Василия, хвалил его.
— Надежным человеком стал. Красивый из него механизатор выходит. Может, через годик-другой у нас свой Константин Борин как в опоке отольется.
— Не отольется, Михаил Тимофеевич. На флот хочет Василий.
— На флот? — переспросил удивленно Камышев. — Не знаю… Не уверен…
— Мне еще в Севастополь писал. Хочет райком просить направить его именно на флот. Удерживать не станете?
— Никого силком не держим. Милиционеров со свистками не выставляем, — с достоинством ответил Камышев. — Только, по моему мнению, всегда надо идти одной дорогой. Посвятил себя механизации — не изменяй.
— Мечтает о море.
— Проглядел я его мечту, — Камышев вздохнул.
— А вы что, и мечты регулируете?
— Регулировать не имею права, палочки нет, а направлять мысли по правильному руслу не отказываюсь. Особенно у молодежи. Насчет Василия — новость! Мало ли кто не носит бляху с якорем! А вышло вон что! Жалко. Поехал я, Петр. А тебя Степан доставит на том же транспорте.
Помазун крестообразно помахал плеткой вслед уехавшему председателю.
— Понял, каков он, Петя? Он тебе все мозги высушит. Давит, как пресс, на сознательность. Дисциплину завел, как в пехотной роте, придирается ко всякой пустяковине. Наблюдал комедию? Меня на доске заставил прыгать, племенного жеребца представлять. Да будь ты трижды рыж, фанатик колхозной жизни, утопись ты в ней по самый вершок папахи, а я нарежу отсюда винта при первом удобном случае! Такие, как Камышев, из живых людей могут семислойный бекон делать. У них все впереди, как в евангелии. А вот я для проверки пытаюсь туда допрыгнуть, никак не достану. Может, груз капитализма и пережитков на ногах виснет, не пускает. Хватит. Я уже не свежачок, на сороковой активно потянуло. Меня к людям тянет, а не к таким колдунам, как Михаил Тимофеевич. Тикать от них нужно. И чем скорее, тем лучше…
Прошло три дня, а Петру еще не удалось толком поговорить с братом. Либо избегал его Василий, либо мешала подготовка «каравана» в помощь закубанским станицам; там не могли справиться с невиданным урожаем колосовых, а уже поспевали подсолнухи и табаки. Василию, похоже, хотелось поскорее уехать, и он явно избегал встречи с братом наедине. Наконец такой случай представился в день последних сборов, когда Василий прибежал за сундучком и бельишком.
— Ксюша, разведи утюг, пройдись по майкам, а то я их сполоснул, сырыми засунул. Ишь как покорежило, — не глядя на старшего брата, попросил Василий. — Налей-ка, прошу, горячей воды, побреюсь.
Да, уже брился недавний пацан. Два года назад у Васьки, пожалуй, и намеков не было на бороду, а сейчас ишь с каким потрескиванием ходит по щекам бритва!
— Подрастаешь.
— Выше вербы? — Василий сидел спиной к брату, возле настольного зеркала, утыканного кругом бумажными цветами. На руке Василия показался неумело наколотый якорь.
— А кожу портишь зря, — сказал Петр, — татуировка теперь — признак отсталости.
— Не думаю. Морская традиция.
— Может, и традиция, но плохая.
— В уставе нет запрета, — буркнул Василий.
— Надулся, вижу.
— Чего мне дуться. Ты не вол, я не лягушка. Некоторые товарищи родинку у другого замечают, а своей бородавки не видят.
— Ой, ой. Про меня, что ли, Вася?
— Про тебя, Петя, — хмуро передразнил его Василий.
— Объясни. Надолго ведь расстанемся.
— Только без обиды?
— Ладно, говори. — Петр в упор смотрел на круто обернувшегося к нему брата. И тот не опускал зеленоватых, неулыбчивых глаз. Соломой торчали на Васькиной голове непричесанные волосы, ресницы, брови выгорели, нос облупился, на тонкой, еще мальчишеской шее пульсировали напряженные жилки. Нелегко давался ему откровенный разговор со старшим братом, тем более по очень деликатному вопросу.
— Решай свои отношения с Марией, — перехваченным голосом выдавил он. — Либо так, либо иначе.
Василий ждал ответа. Чтобы унять дрожь своих рук, он принялся точить на оселке бритву.
— Ты сам это говоришь или она попросила?
— Сам… Вся станица давно уже вас сосватала, ты повод дал…
Петр ничего не ответил, только покачал головой, закурил. Не зная, как расценить это молчание, Василий закончил бритье, уложил сундучок, попрощался со всеми, подал руку брату.
— Я тебя провожу, Вася.
Шагали по пыльной дорожке, подле заборов и канав. Вдали показались крыши машинно-тракторной станции.
— Может, вернешься? — спросил Василий.