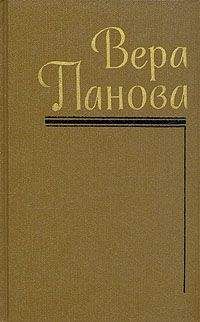Вздохнув, Марьяна оделась и пошла домой. Конечно, Сережи нет, во дворе пусто, только куры лениво копаются под сиреневыми кустами… Тетя Паша вышла во двор бросить курам горсть зерна. Марьяна обняла ее и положила лицо ей на плечо, приговаривая, как в детстве:
— Ой гудут мои косточки, ой наработалась, ой дайте мне супу!
— Иди обедай, — сказала тетя Паша. — Иди, детка.
И поставила тарелку на кухонный стол, накрытый чистой клеенкой. В глиняном кувшине стоял на столе большой букет васильков. Кот Зайка дремал на лавке около кадушки с водой, один глаз у него зажмурен плотно, другой чуть-чуть подсматривает: Зайка бы тоже пообедал, да вставать и мяукать лень — спать хочется… Все здесь давным-давно знакомо и мило: каждая вещь, и место каждой вещи, и смысл каждой вещи. Никогда не будет у Марьяны угла более теплого, какого же еще пристанища нужно ее сердцу?..
— Что ж не ешь? — спросила тетя Паша.
— Скучно одной, — сказала Марьяна, положила ложку и вышла во двор, потом за калитку, на улицу.
— Сережа! — крикнула она. «Может, он тут где-нибудь в садах играет…» Застучали шаги по мосткам, Марьяна взглянула — по Дальней улице шел Коростелев. «К нам или не к нам?» — подумала Марьяна. Он кивнул и сказал:
— Здорово, Марьяша.
И прошел мимо, не остановившись, может быть, даже не заметил, ответила она ему или нет. Озабоченный, занятой. Когда-то приходил в дом со своей матерью Настасьей Петровной — высокий, худой голубоглазый мальчик, играл с Марьяной в подкидного дурака; по праздникам, бывало, они приходили, а теперь и не заглянет Митя, Дмитрий Корнеевич. Солидным человеком стал, заботы у него. Вон, пошагал куда-то по своим делам…
Она смотрела ему вслед. Он дошел до угла и на секунду оглянулся. Свернул за угол…
И зачем бы он остановился около нее? Время игр прошло. Что у них общего? У нее тоже заботы. Она шагает своей дорогой, по своим делам.
Что за лето! Где засушливое, где дождливое не в меру — недоброе лето! Теперь уже и загадывать нечего, и обольщаться надеждами, ясно — не соберет народ столько хлеба, сколько рассчитывал собрать; забота — сохранить что возможно, извернуться в беде.
Эх! Не впервой затягивать пояс потуже. Извернемся, то ли бывало. Советское государство не даст народу пропасть. Наша с вами, товарищи, задача — невзирая ни на что, поднимать совхоз на высоту. Силоса, силоса побольше заготовить для скота. Подрастет новая трава, даст бутоны, скосим на силос. Уберем капусту на силос. Подсолнух — он в наших местах вырастает выше человеческого роста, головки — во! — только что не вызревает подсолнух на силос. Осоку туда ж. Свекольную ботву. Солома будет, мякина будет. Сеном не обижены. Отруби… По одежке протягивай ножки.
Опять беда: башни наши рассчитаны каждая на триста тонн силоса, а практически придется закладывать по двести. Старые башни, верхи рассохлись, а с ремонтом в этом году не поспеть… Скотники, доярки, поварихи, конторщицы, кто там свободен из механиков, администрация, уборщицы, заведующая библиотекой, няни из детского сада, комсомольцы из райцентра — все на закладку силоса!
Сообщает бюро прогнозов: предвидится полоса проливных дождей. Звонок из треста: убирайте сено, зальет… Что ты скажешь! Поварихи, конторщицы, скотники, кто там свободен из механиков, администрация, рабочкомовцы, няни, комсомольцы города — все на субботник по уборке сена! Грабли конные и ручные, стогометы, волокуши — все в ход!
Председатель рабочкома, зажав грабли под мышкой, подходит с претензией: почему нет кипяченой воды. Ах ты, затмение произошло, все учел — кипяченую воду забыл. Товарищ Гирина, друг, кидай волокушу, поезжай за баками, и чтоб обязательно в столовой вскипятили воду, а то рабочком мне даст жизни.
Едва успели сложить сено в стога и укрыть соломой, как на целую неделю без просвета, без передышки грянул дождь. У людей ни дождинки, а к нам зачастил. Не насмешка? Хлеба полегли…
Бабка изучает астрономию, сказала давеча, что явления в природе происходят от пятен на солнце. Будь они прокляты, эти пятна, если от них такие явления.
Фундаменты для новых телятников были заложены еще прошлым летом, теперь возводили стены. На строительной площадке хорошо пахло чистой влажной стружкой. Заведовал постройкой Алмазов. Его запой прошел. Как дал тогда Тосе слово, что больше не прикоснется к водке, так и не пил с того дня. Он был хмур — не пошутит, не улыбнется. «Что-то ему не нравится, думал Коростелев, наблюдая за ним. — Хозяйство ли наше не нравится, или дома нелады, а может, работа не по душе?» Нет, дело не в работе: Алмазов строитель настоящий, хорошо учит молодежь, под его началом дело пошло спорее и лучше.
Он попросил, чтобы его ознакомили с общим планом строительства. Коростелев принес ему сметы и чертежи.
— В сметах не разбираюсь, — сказал Алмазов. — Интересуюсь объектами, числом и размером. У вас телятники запроектированы на этот год, а дворы для взрослой скотины на сорок седьмой и сорок восьмой — чем руководствовались?
— Молодняку надо в первую очередь.
— Дворы тоже в плохом состоянии. Ремонт будет тяжелый. Возьмет много материала и рук. Невыгодно.
— Не ремонтировать нельзя.
— Я понимаю. И вы хотите иметь телятники к осени?
— Обязательно. Профилакторий и родилку — не позже как к первому сентября.
— А если на полтора месяца позже, а зато план сорок седьмого и сорок восьмого уложим в будущий сезон?
— Как это?
— Я считаю так. Надо теперь же становить все объекты, что для телят, что для коров. Использовать строительный сезон.
— Ну что вы.
— Можно успеть. Возвесть стены, покрыть крышу.
— А внутреннее оборудование? Вы себе представляете, какая это морока? Стойла, стоки, клетки, кормушки…
— Внутренние работы будем делать под крышей, когда холода придут. Внутренние работы всю зиму будем делать. И рамы вставлять, и штукатурить можно зимой. И летом сорок седьмого года закончим. Такое мое предложение.
— Тут что-то есть, — сказал Коростелев. — Я подумаю.
Алмазов внушал доверие сжатой, дельной речью, хозяйственным подходом к делу, а главное — чистотой своей работы. Но предложение все-таки рискованное. Нагородим стен, не успеем даже оконные рамы вставить, и опять телята в старом профилактории, и коровам телиться в старой, негодной родилке.
Иконников был решительно против алмазовского проекта. Безусловно, ничего не успеем закончить толком и что скажем тресту? Как можно брать на себя такую ответственность? Нет уж, давайте достраивать что начали, чтобы в сентябре записать в отчет: закончен профилакторий. Не сделаем лишнего с нас не взыщут, а невыполнение плана чревато огромными неприятностями… Но на сторону Алмазова встал Бекишев: разумный проект, хозяйский проект, на целый год сокращает сроки строительства, экономит большие суммы. Сезонников надо придать Алмазову, вот, к примеру, ребята из веттехникума выражают согласие на каникулах поработать, надо их оформить…
Когда Коростелев сказал Алмазову, что его предложение принято и через пару дней к нему придут новые помощники, Алмазов выслушал сообщение равнодушно. Было похоже, что его гложет болезнь: он исхудал, щеки его запали.
— Товарищ Алмазов, у вас, часом, легкие в порядке? — спросил Коростелев. — Сходили бы на рентген.
Алмазов стоял перед ним в старой гимнастерке без пояса, зажав папиросу в узких губах, глаз его, сощуренный от папиросного дыма, тускло смотрел на Коростелева.
— Нет, я здоров, — сказал Алмазов и взялся за рубанок. Железные жилы налились на его маленьких руках.
«Может, по водке скучает», — подумал Коростелев и сказал:
— Вот закончим постройку — отметим, выпьем.
— Не пью, спасибо, — отрывисто сказал Алмазов. — Кончил с этим делом.
Люди, работавшие с ним, были свидетелями, как иногда он вдруг бросает работу и уходит в поле, идет-идет — и остановится, не за нуждой, а просто так: стоит, заложив руки в карманы, закинув голову, долго стоит и словно слушает что-то, потом опустит голову и понуро возвращается на свое место.
— Контуженый, — говорили между собой люди. — Они, контуженые, чего не вздумают.
Всю жизнь Алмазов плотничал, столярничал — строил.
Он любил свою профессию. Ему нравилось, что от его усилий есть государству наглядная польза. Нравилось делать вещи, которые будут служить долго. Сделает, бывало, что-нибудь, взглянет быстрым взглядом на свою работу, ничего не скажет, только в углах узких губ мелькнет довольная усмешка — и пошел работать дальше.
Когда его призвали, он думал: не привыкну я к военной жизни; солдат, надо полагать, буду не хуже других, а привыкнуть не привыкну.
Но он привык скоро. Человек здоровый, с простыми обычаями и смелым сердцем, он легко принимал тяготы войны: зной, холод, усталость, бездомность. Служил так же исполнительно, как в мирное время работал. И даже по вкусу ему пришлась военная жизнь, потому что он чувствовал, что делает дело, что он нужный в армии человек, что от него тоже зависит победа его родной страны и спасение мира от фашизма.