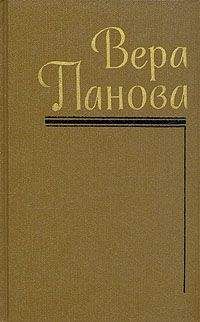«Ах, молодцы Иван Николаевич и Алена Васильевна! — весело подумал Коростелев. — Сразу тебе — и Петрусь, и Галя… А мозги-таки вправили, голубчик, невзирая на все твои ордена…»
Он взял перо и начал писать ответ:
«Дорогой Иван Николаевич! Прежде всего, поздравляю тебя. Хотел бы повидать всю твою семью…»
И задумался: врет Гречка насчет дружеских чувств или не врет? Разве от одной встречи может зародиться дружба?
Но ведь вот ему действительно хочется повидать Гречку и поговорить с ним, и будь время, он бы охотно съездил в Белоруссию и посмотрел, как там живет и действует Гречка. Должно быть, так и начинается дружба — и почему бы Гречке не питать к нему, Коростелеву, такого же интереса и симпатии?..
Подали телеграмму, приказ Данилова: немедленно явиться в трест.
— Нашли время вызывать, — сказал Коростелев. — Тут уборка началась…
«Неужели будет разговор о той проклятой телке? Не может быть: после трехмесячного молчания, после похвалы в приказе… Совещание какое-нибудь».
Вызвал Иконникова и Лукьяныча, велел в оперативном порядке составить отчет на сегодняшнее число. Стал записывать — какие кому оставить распоряжения на время своего отсутствия.
Письмо к Гречке осталось незаконченным.
Здание, в котором помещался трест, было заново выкрашено серо-сиреневой краской, у двери висела новая стеклянная доска с золотыми буквами, стекла протерты, лестница чисто выметена. На всем лежал отпечаток даниловской опрятности. «Уже навел порядок, — мимолетно подумал Коростелев, идя к директорской двери, обитой черной клеенкой. Аккуратист».
Данилов встал ему навстречу. На нем был офицерский китель без погон, такой чистый и свежий, словно только вчера выдали Данилову новое обмундирование. Лицо и голова у Данилова атласно выбриты.
— Садитесь. Как доехали?
Коростелев сел в прохладное клеенчатое кресло.
— Как дела?
— Убираем зерновые. Кирпича заканчиваем восьмую сотню тысяч. Вот, захватил полный отчет.
— Отчет — вещь полезная, — сказал Данилов, перелистав бумаги, поданные Коростелевым, — но недостаточно подробная. Как люди, настроение людей?
— Настроение было тревожное, боялись, что дожди помешают уборке.
— А сейчас?
— Взбодрились. Коллектив у нас крепкий.
— Это хорошо, — сказал Данилов, — что вы своевременно управились с сеном. Не управься вы своевременно, большая беда была бы для совхоза. Трест отметил вас в приказе, вы получили выписку?
— Да. Выписок получаем много.
— Бумажное руководство?
— А что, Иван Егорыч? За полгода к нам из треста хотя бы одна душа заглянула.
— Плохо, конечно. Но учтите, что аппарат треста до сих пор не укомплектован как следует. Министерство обещает, но пока что никого не видать. А у нас есть совхозы, где приходится сидеть невылазно, чуть ли не самому за грабли браться, чтобы навести хоть какой порядок. В «Долинке» вовсе завалили сеноуборку… Ваш совхоз, сравнительно с другими, в блестящем состоянии.
«Нет, — подумал Коростелев, — не будет разговора об Аспазии».
— Но все же никакой ценой, товарищ Коростелев, не покупается право на преступление.
Коростелев дернулся всем телом, сжал подлокотники кресла:
— Вон какая формулировка?
— А как иначе велите формулировать, если директор по своему усмотрению раздает доверенное ему государственное имущество?
— Как это — раздает? — повысил голос Коростелев. — Один случай был, и то при чрезвычайных обстоятельствах.
— Знаю обстоятельства. Три раза прочел вашу докладную записку вдоль и поперек. Хотел вычитать что-либо, что оправдало бы ваш поступок перед законом.
— И ничего не вычитали?
— Ничего.
Данилов сидел в кресле как статуя, широченные его плечи были развернуты, как в строю.
— Так-таки решительно ничего не вычитали?
— Вычитал, что сердце у вас доброе и что человек вы широкий. Для хозяйственника этого недостаточно.
От раздражения у Коростелева сперло дыхание.
— Потому что вы не фронтовик, — сказал он. — Вы, говорят, всю войну замполитом проездили в санитарном поезде. А фронт надо глазами повидать, чтобы понять, почем фунт лиха и что такое тот партизанский колхоз.
Данилов принял упрек — не дрогнули чугунные плечи, только покраснел слегка.
— И вы считаете, что без вашей щедрости партизанский колхоз не выйдет из затруднений? Никто не печется о колхозе, один товарищ Коростелев, дай ему бог здоровья…
И Коростелев покраснел — даже лоб у него стал темно-красным.
— Гречка говорит…
— А мне безразлично, что там говорит Гречка. Он и в другие наши совхозы заезжал, да не вышло дело — отказали… Вы знаете, какую помощь оказывает государство освобожденным районам? Я вам цифры покажу: сколько туда завезено скота, инвентаря, стройматериалов. Гигантские масштабы восстановления иначе как плановым порядком немыслимо осуществить. А ваша благотворительность липовая. Никому не нужна и ничего не решает. Не говоря уже о том, что здесь преступление, за которое следовало бы исключить из партии. И вас, и Гречку.
У Коростелева в глазах помутилось, пот большими каплями выступил на висках. Исключить из партии! Нет, он, кажется, сказал «следовало бы». Бы. Да-да, он сказал — «бы»…
— Вы знали о том, что распределение скота идет централизованно, через Племзаготскот? Знали, что за народное имущество, вам доверенное, вы головой отвечаете? Знали, что у нас социалистическое хозяйство, а не частная лавочка?
Данилов спрашивал тихим голосом, жестко двигая тонкими губами маленького рта. Поблескивал золотой зуб…
— В воинских рекомендациях отмечается ваша дисциплинированность. Решили, что если война кончена, то дисциплину побоку?.. Должен вам сказать, что вы на волоске висели, товарищ Коростелев, с того самого дня. Сильно чесались у меня руки — снять вас, что называется с треском, чтобы другим неповадно было. Потом подумал: дай погляжу, как он выдержит летний сезон. Обеспечит совхоз кормами, заложит фундамент для дальнейшего развития — прощу за Аспазию, не буду ставить вопрос о снятии…
Коростелев вынул платок и вытер лицо.
— Но разговор в партийных инстанциях должен все же состояться. Я не допущу, чтобы в моем тресте разбазаривали племенной скот.
Коростелев слушал, машинально водя платком по щекам и по шее…
Данилов глянул внимательно, лицо его смягчилось.
— Соображать надо, — помолчав, сказал он другим тоном, с досадливым сожалением. — Не взыскать с вас — другие тоже начнут раздавать направо и налево. Чувствительных-то сердец много. Ведь уже по всем совхозам звон пошел. Шуточки — дочь Брильянтовой. Брильянтовая записана во всесоюзную книгу высокопродуктивных животных. Целая литература о ней существует, и о потомках ее, и о предках. Не читали небось? Возьмите, поинтересуйтесь, в тресте есть… И вот что мне скажите: допустим, Гречка не вас разжалобил бы, а кого-нибудь из ваших подчиненных, хотя бы Иконникова, и Иконников ему вот этак, из рук в руки, отдал бы дочку Брильянтовой, — взыскали бы вы с Иконникова? Нет, уж будьте добры, ответьте на вопрос: взыскали бы или нет?
— Взыскал, — мрачно ответил Коростелев, отвернувшись.
— Вот то-то. Дело это принципиальное. Речь не просто о телке. Речь о всем нашем высшем порядке, надо понимать. — Данилов снова взял отчет, стал перелистывать. — Кирпича восьмую сотню заканчиваете? Хорошо. И куда предназначили?.. — Они заговорили о строительстве, и об Аспазии больше не было сказано ни слова.
Данилов приехал в августе.
Три дня он провел в совхозе, все осмотрел: тока, и зерно на токах, и постройки, и завод. Обещал, что к будущему сезону совхоз получит станок для выделки черепицы, есть договоренность с ленинградским заводом. Обещал подбросить стройматериалов… Был на пастбище, смотрел стадо, ночевал с пастухами на левом берегу. Данилова знали в совхозе давно, с довоенных времен, и любили, хоть был строг. Как-то вечером застал его Коростелев на квартире у скотника Степана Степаныча, в компании старых рабочих. Степан Степаныч играл на гармони, а гости, и Данилов в том числе, пели: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». У директора треста оказался высокий тенор, он часто фальшивил, но пел истово и серьезно, отбивая в воздухе такт большой рукой, сложенной лопаточкой… «Кажется, я один с ним держусь натянуто, — думал Коростелев, видя, как все кругом запросто обращаются к Данилову, — а для других он добрый мужик, свой брат».
На четвертый день Коростелева вызвали на бюро райкома.
Когда вошел в знакомую комнату и увидел, что в углу на диване сидит Данилов, — понял: сейчас будет поставлена точка над делом об Аспазии. В первый момент обрадовался: пусть точка, пусть положат ему взыскание, какое сочтут справедливым, — и конец. Больше это не повторится. Но вдруг подумал: а ну, как исключат? Горельченко — человек крутой, неожиданный… Бледнея и забыв поздороваться, Коростелев тихо сел на стул у двери.