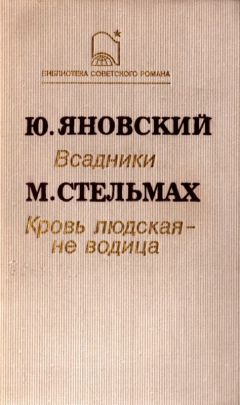Это был знаменитый Каховский плацдарм Красной Армии, арена ожесточенных августовских боев с корпусом генерала Слащева и кавалерией генерала Барабовича. Несокрушимый островок в степях Таврии, упирающийся в широководье Днепра, несколько рядов колючей проволоки, окопы, опорные точки, плацдарм занимала легендарная Сибирская дивизия. Натиск кавалерии генерала Барабовича разбился о заграждения и о мужество защитников плацдарма, атаки корпусов генералов Слащева и Виктовского не смогли разгрызть этот каховский орех.
На глазах у Чубенко плацдарм ожил. В сером туманном рассвете разгорался бой. В сером рассвете где-то далеко в степи ползли несколько черепах, и каждая стреляла из пушек и пулеметов… «Танки», — подумал Чубенко. За черепахами покатились волны снарядов, тысячи пулеметов, казалось, сшивали пулями гигантские стальные листы.
Одиночные выстрелы и даже залпы бойцов терялись в этом хаосе, Чубенко подумал о тех, кто сидел в окопах под этим смертоносным ливнем, наперекор неистовству белой гвардии, наперекор танкам врангелевского поставщика — мирового капитализма.
В окопах сидели горняки Кизила, рабочие Урала, сибирские партизаны — победители Колчака.
«Они еще не видели танков, им не выдержать такого штурма, — вслух произнес Чубенко, — мне хочется быть там, умереть с ними».
Тем временем понемногу светлело, белые возобновили атаку на плацдарм, Чубенко видел, как под прикрытием танков и бронемашин подтягивались резервы, как выбегали им навстречу из окопов маленькие человечки и бежали прямо на танки, падали и снова бежали. «Таких не испугаешь», — прошептал Чубенко, и сердце его переполнилось великой радостью и нежностью к бойцам.
Становилось светлей и светлей, и тогда на небе показались самолеты. Чубенко насчитал их семнадцать. Они летели с юга, развернулись к атаке и принялись бомбить плацдарм. Страшно было смотреть, как вздымались взрывы их бомб, Чубенко весь трясся от ярости, было невыносимо видеть, как гибнут его товарищи, он выхватил револьвер и выстрелил, сам не понимая, что делает. «За мной! — крикнул он. — За мной!» — словно его отряд мог тут же взмахнуть крыльями и перелететь расстояние до врага.
Донбасский полк задержался у переправы. Бойцы принесли Чубенко кожушок. «Ты слабый после тифа». Днепр катил свои тяжелые серые волны, понтонный мост то поднимался, то опускался под ногами. Шла переправа войсковых частей на плацдарм, наконец дошла очередь и до Чубенко. Поздним осенним утром, выполняя приказ, перешел он с полком на другой берег, бой на плацдарме то потухал, то опять разгорался с яростью вулкана, но где-то далеко.
Чубенко не довелось принять участие в сражении: плацдарм отразил все атаки, захватил двенадцать танков и бронемашин, разгромил в пух и прах белый корпус. Это была блестящая победа. На поле боя остались брошенные танки. Они безжизненно стояли у тел своих хозяев. Трупы офицеров — в черных гимнастерках, на рукавах нашиты белые черепа и кости, вышиты буквы. «Не боюся никого, кроме бога одного», — прочитал Чубенко.
Танки стояли бок о бок, вокруг лежало много трупов красных бойцов, которые мужественно пошли в неравный бой и победили.
На свежей озими в стороне от окопов сидел белый офицер. Ему по колени оторвало ноги. Перевязать его еще успели, но в паническом бегстве его сбросили с повозки. Бинты на коленях пропитались кровью, офицер сидел, зажмурив глаза, и покачивался не то без памяти, не то пьяный. «Наш отец — широкий Дон, наша мать — Россия, всюду нам ведь путь волен, все места родные», — донеслось откуда-то.
И еще Чубенко повстречался небольшой конный отряд, который вез хоронить своего командира.
Это была совсем иная смерть, вот так бы умереть, — суровая торжественность и печаль бойцов отряда взволновали Чубенко, не раз смотревшего в глаза смерти. И он присоединился к отряду, сопровождающему с шашками наголо своего командира.
А командир лежал на тачанке и глядел в небо, голова его покачивалась в такт рессорам, казалось, он твердил, покачивая головой: «Как же это я дался смерти, товарищи, как же это я дался?» — и кудрявый чуб его колыхал ветер.
Над перекопской равниной несутся осенние тучи, журавли — нескончаемыми ключами, холодная земля, степной октябрь. Пятидесятитысячная армия барона Врангеля бросает в бой офицерские бригады дроздовцев, корниловцев, марковцев, подтягивает резервы кубанцев, донцов, концентрирует танки и бомбовозы, а в нее нацелились пять армий красного Южного фронта. Осень тысяча девятьсот двадцатого года гремит в степях глотками тяжелых орудий, цокает сотнями тысяч конских копыт, рокочет моторами танков и штурмовой авиации, ворочает армиями двух исторических эпох.
«Если уж говорить о Ватерлоо, — сказал молодой генерал, — то я не вижу здесь Наполеона Бонапарта». Он засмеялся, этот вчерашний кубанский есаул, рыжий и рябой, грубый и задиристый. «Вот он, наш новый генералитет», — подумал его собеседник, седой генерал, стриженный ежиком.
«А дело все-таки идет к Ватерлоо, — продолжал молодой, — красные будут и разбиты и истреблены».
Беседующие сидели в штабе: молодой потягивал коньяк, старый — молоко.
«Собственно, — сказал старик, поставив стакан, — под Ватерлоо никакого сражения не было».
«Как не было? А история?»
«Первое сражение произошло под Линьи, где Наполеон разбил вдребезги прусскую армию Блюхера, а сам Блюхер — старый рубака, неподкупный, мужественный генерал, хоть и с весьма скудным образованием, — во время переполоха свалился с лошади, и его долго не могли найти. Но начальником штаба у него был Гнейзенау, товарищ Шарнгорста, не знаю, говорят ли вам что-нибудь эти имена…»
Молодой промолчал, с остервенением хлебнув коньяку.
«И Гнейзенау, блестящая голова, отдал верный приказ, в каком направлении отступать разбитым прусским войскам. А Наполеон тем временем ввязался у горы святого Жана в бой с английскими войсками Веллингтона и, сломив сопротивление, готовился разбить их наголову. Но тут подоспели уже однажды битые Гнейзенау с Блюхером и помогли богине Победы перейти от Наполеона на противную сторону. А Ватерлоо — это просто деревня, где стоял штаб армии Веллингтона восемнадцатого июня в тысяча восемьсот пятнадцатом году».
В штабе наступила пауза, во время которой слышалась далекая канонада, ржание лошадей и завывание ветра.
«Боевая операция, приводящая к уничтожению неприятеля, — это Канны, — продолжал старый генерал. — Вам не приходилось этого изучать, ваше превосходительство?»
Залихватский рябой есаул в генеральских погонах покраснел от злости. Он взглянул на старого генерала и подумал, что ничего не стоит перерубить его, как лозу. «Мы беседуем о заднепровской операции», — пробурчал он.
«Тем более вам не помешает знать о Каннах, — не спеша тянул старик, — это те самые Канны, о которых писал известный граф Шлиффен. В двести шестнадцатом году до нашей эры гениальный карфагенский полководец Ганнибал, с пятьюдесятьютысячным войском, уничтожил неподалеку от Канн семьдесят тысяч римского войска консула Теренция Варрона. Непобедимая карфагенская кавалерия во главе с Газдрубалом опрокинула кавалерию римской армии на правом крыле, промчалась по войсковым тылам и разгромила кавалерию левого римского крыла. В результате блистательного маневра Ганнибала римлянам пришлось отбиваться со всех четырех сторон одновременно, и карфагенские войска уложили на месте почти всех римлян. Да, Канны».
«То же будет и под Каховской, — сказал молодой, — у римлян Канны, у красных — Каховка».
Генерал с седым ежиком покачал головой: «Эта смелая операция за Днепром, может быть, и завершится успешно, но генералу Бабиеву следует весьма и весьма остерегаться всевозможных неожиданностей», — процедил он сквозь зубы.
Рябой есаул пожал плечами, его генеральские погоны стали торчком, он знал, что на расстоянии человеческого голоса стоит бригада его головорезов, и в решительную минуту он выведет их из резерва на преследование разгромленных красных. «Не полагаете ли вы, ваше превосходительство, — сказал он, — что наш третий корпус и кавалерия генерала Бабиева ушли за Днепр только ради того, чтобы вернуться обратно?»
Старый генерал допил молоко, прошелся прихрамывая к двери, повернул назад, его раздражала заносчивость этого мужлана. «Хорошо, если вернутся», — буркнул он.
«Ведь командовать красным фронтом поручено Фрунзе, — резко произнес он немного погодя, — и я бы не желал, — он остановился, глядя в окно, — я бы не желал, чтобы это были дурные вести…»
Однако вбежавший в комнату офицер вовсе не походил на доброго вестника. «Конец! — крикнул он. — Заднепровская операция провалилась! Под Каховкой погибли все танки! Сволочи!» Он повалился прямо на стол, на его губах выступила пена. Рябой есаул в генеральском чине мигом выскочил во двор, и оттуда донеслись его неистовые ругательства и нелепая команда бригаде.