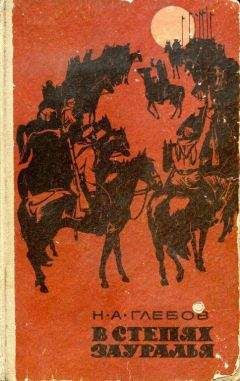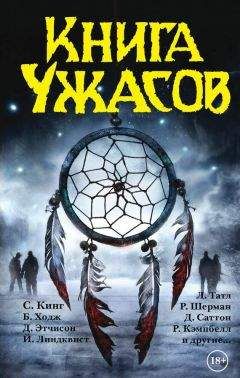— Что-то я вас не видел раньше. Вы здесь живете? — обратился он к Фирсову.
— Нет, я учусь в Петербурге. Каникулы провожу в степи на мельнице отца, у знакомого мне механика.
— Почему не дома?
— Во-первых, я не разделяю взглядов отца на жизнь, во-вторых, я живу самостоятельно.
— И это еще не все, — вмешался Виктор в разговор. — Там недалеко от мельницы есть у него симпатия. — Словцов знал об отношениях Андрея к Христине Ростовцевой.
— Что же, все это достаточно веские причины, они делают честь Андрею Никитичу. Устенька! — крикнул он в соседнюю комнату. — Самоварчик бы нам.
Поправляя на ходу косу, Устинья прошла в кухню. Фирсов успел заметить ее красивую, статную фигуру.
— Между прочим, у Никиты Фирсова есть интересный субъект, — заговорил Словцов и, улыбнувшись Андрею, продолжал: — Хотите расскажу о встрече с ним? — Виктор закурил.
— Однажды иду по улице, день был праздничный. Смотрю, навстречу мне шагает какой-то огромный человечище. Вытянул руки и рычит, аки зверь: «Варав-ва, дай облобызаю». Винищем прет от него за версту. «Скорбна юдоль моя. Эх, студиоз, студиоз, — похлопал он меня по плечу. — Пойдем, говорит, в кабак». Облапал меня ручищами и загудел, как колокол:
…Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье…
«Пью я, студиоз. Пью и буду пить, пока чортики перед глазами не запрыгают». Умный человек, говорю, до такого состояния никогда не дойдет. «А я что, по-вашему, дурак?» — Я не сказал этого. — «Может, я пью от неустройства жизни, а?» — Не знаю, но человек себе хозяин. — А он так ехидно: «Если ты хозяин, поезжай обратно в Петербург, в свой университет». Чтобы отвязаться от пьяного Елеонского, отвечаю шуткой: — Рад бы в рай, да грехи не пускают. «Вот то-то и оно, — расстрига поднял указательный палец и изрек: бог есть внутри нас, остальное все переменчиво. Адью», — и, приподняв над головой рваный картуз, шаркнул босой ногой и, напевая что-то церковное, зашагал от меня в переулок.
Внимательно слушая Виктора, Русаков прошелся раза два по комнате.
— Теория богоискательства не нова, — начал он. — За последние годы, в особенности после поражения революции 1905 года, ею начали увлекаться слабонервные интеллигенты. — Григорий Иванович провел по привычке рукой по волосам и продолжал не спеша:
— Нашлись так называемые «новые апостолы» марксизма, в частности Базаров, Берман и другие, и последователи у них нашлись типа Елеонского.
Андрей заметил, что последнюю фразу Русаков произнес с нескрываемым презрением.
— …Мы должны бороться с любой разновидностью религии. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма, так учит Ленин. Кстати, у меня сохранился экземпляр газеты «Пролетарий», где опубликована передовая статья Ленина «Об отношении рабочей партии к религии». Советую вам ее почитать. Одну минутку. — Русаков вышел из комнаты.
Было слышно, как за ним скрипнула дверь. Через некоторое время Григорий Иванович с довольным видом передал газету Андрею.
— Только прошу вернуть. Очевидно, она еще нам потребуется.
Вскоре на пороге комнаты показалась Устинья с самоваром. Поставила его на стол и украдкой посмотрела на Андрея, которого она знала понаслышке.
«На Сергея-то не похож, больше на мать», — подумала девушка и стала расставлять посуду.
В дверь просунулась голова Епихи и вскоре скрылась.
— Епифан, заходи в комнату, — заметив парня, пригласил его Григорий Иванович.
Епиха робко переступил порог и остановился в нерешительности.
— Заходи, заходи, не бойся, — подбадривал его Русаков и подвинул стул.
— Это брат Сергея Фирсова, Андрей, — показал он на сидевшего рядом с Виктором Андрея. — Тоже социалист, как и я.
— Ты суди, — недоверчиво протянул Епиха и уселся на краешек стула. — Диво берет, — продолжал он, осмелев, — Сергей Никитович-то, говорят, весь в отца и капиталом ворочает не хуже Никиты Захаровича, а вы, стало быть, больше по ученой части? — оглядывая плотную фигуру Андрея в студенческой тужурке, спросил он.
— Будущий инженер, — ответил за Фирсова Виктор.
Епиха робко подвинул свой стул ближе к Русакову, к которому он с первых же дней знакомства почувствовал большое доверие. Разговор затянулся до вечера.
Был тихий августовский вечер. Над котловиной города, купаясь в лучах заходящего солнца, медленно плыли с полей серебряные нити паутинок.
Русаков переоделся и направился в мастерскую, которую Елизар Батурин вместе со своим квартирантом устроили из старой, когда-то заброшенной бани, стоявшей в глухом переулке. Русаков раздул угли и, сунув в них паяльник, осмотрел старый, позеленевший самовар, который дал течь.
В мастерскую пришел Епиха; он молча уселся на мельничный жернов, лежавший недалеко от порога, и стал наблюдать за работой Русакова.
Стачивая рашпилем заусеницы и наплывы олова, Григорий Иванович спросил:
— Ты умеешь отгадывать загадки?
— А ну-ко, может, отгадаю, — Епиха в нетерпении полез в карман за кисетом.
Русаков, отложив рашпиль, уселся рядом с парнем.
— Вот тебе загадка: один с сошкой, семеро с ложкой. Отгадай.
Закурив, Епиха задумался.
— Не знаю, — признался он мастеру. — Мудреная какая-то.
Тот улыбнулся.
— Эх ты, горе луковое, — похлопал он по плечу парня. — А еще хвалился, что умеешь отгадывать. Слушай: это мужик пашет землю, а за ним с ложками в руках тянутся поп, староста, урядник, писарь и другие захребетники.
Лицо Епихи озарилось улыбкой:
— А ведь верно, Григорий Иванович. Как это я не догадался.
Часто молодой Батурин заходил к мастеру покурить вместе со своими приятелями Осипом и Федоткой.
Обычно парни усаживались на старый жернов и молча вынимали кисеты. Григорий Иванович, отложив в сторону начатую работу, подходил к ребятам.
— Закури-ко нашего, уральского, — предложил Русакову Федотко.
Ссыльный не торопясь свертывал цыгарку и, затянувшись табаком, одобрительно кивал головой:
— Крепок.
— Самосад, — довольный Федотко переглянулся лукаво с товарищем. — Прошлый раз дал покурить одному антиллигенту, так он чуть от дыма не задохнулся, — усмехнулся парень.
— А что такое «антиллигент»? — Григорий Иванович вопросительно посмотрел на Федотку.
— Антиллигент — это значит, — ответил бойко Федотко и презрительно сплюнул, — тот, кто носит брюки на выпуск и галстук бантиком.
— Нет, ребята, не так надо понимать это слово, — сказал Русаков.
— А мы не про всех, — оправдывался Федотко.
— Про кого, например?
— О тех, кто нос задирает перед нашим братом, — отозвался Осип.
— По-вашему, если человек одет по-городскому, значит он интеллигент?
— Ясно, — кивнул головой Епиха.
— Нет, не ясно, — горячо заговорил Русаков. — Настоящий интеллигент — это тот, кто зарабатывает хлеб своим трудом и знания которого идут на пользу народа, ну, например, учитель, доктор, писатель. Но и интеллигенты бывают разные. Иные служат верой, правдой трудовому народу, иные свои знания продают хозяину-капиталисту, защищают его интересы, тех и других в один ряд ставить нельзя…
— Вы слышали про таких интеллигентов, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов? — спросил Григорий Иванович.
Парни, забыв обо всем, не опускают внимательных глаз с ссыльного, рассказывающего о героической жизни революционных демократов.
Наступает вечер. В переулке, где стоит мастерская, тихо ложатся от заборов мягкие тени.
Ребята неохотно поднимаются с жернова.
— Приходите почаще, нам еще о многом надо поговорить, — пожимая им руки, говорит Русаков и, простившись, закрывает мастерскую.
* * *
Как-то зимой, подрядившись везти зерно в Челябинск на архиповекую мельницу, Епиха по привычке забежал к Русакову, который только что вернулся из мастерской.
— Еду утром в уезд. Оттуда подрядили везти муку в горы, — заявил он Григорию Ивановичу. — Идет целый обоз.
— Что ж, поезжай, кстати, не сможешь ли ты, Епифан, передать письмо одному человеку. Как его найти, я тебе расскажу.
Вынув из кармана пиджака небольшой конверт, он передал его Епихе: — Письмо очень важное и передать нужно лично в руки. Сможешь ли ты это сделать? — Глаза Русакова смотрели на Епиху серьезно, даже строго.
Парень замялся.
— Тут что, насчет политики?
— Да, — ответил твердо Русаков, — я на тебя надеюсь, Епифан, спрячь только подальше.
— Боязно как-то, Григорий Иванович, — неуверенно протянул Епиха. — А вдруг кто узнает? Тогда как?
— Пойдем оба в Сибирь, — улыбнулся Русаков и шутливо сдвинул шапку Епифана ему на глаза. — Волков бояться — в лес не ходить.
Веселый тон ссыльного ободрил Епиху и, поправив шапку, он ответил: