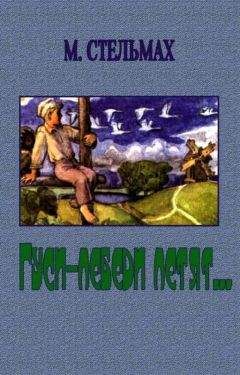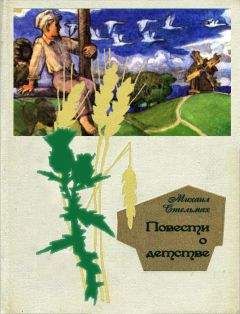— О!
— Вот тебе и «о»! — Петр собирает в оборку потрескавшиеся губы, наверное, передумывает, стоило говорить то, что о нем сказала девушка, потому что и мы перехватили от старших манеру свысока относиться к тому, что говорят женщины. — Думаешь, хвастаю перед тобой? Очень нужно мне!
Нет, я не думаю, что он хвастается. Слова Марьяны поражают меня. Теперь я совсем другими глазами осматриваю пастушка, его старый замасленный картузик, отрепанную одежду и едва ли не впервые вижу, что он действительно славный: и брови у него черные, сосенкой, и глаза красивые.
Как иногда важно бывает, чтобы кто-то выделил у человека что-то хорошее и другим, менее зрячим, подсказал. Я смотрю через поле вдаль, где только стайками яворов и тополей определяется село, и тепло вспоминаю энергичную поповскую служанку Марьяну, ту босоногую с двумя подвижными косами метелицу, что все делает набегу, пританцовывая и смеясь или напевая. Даже когда матушка ругает ее, служанка наполняется смехом, продавая белые подковки зубов и целых три ямки: две на щеках, а третью на подбородке.
— Нет на тебя, сорвиголова в юбке, ни грома, ни молнии, ни трясцы, ни лихой годины и ни синей печали.
— Вот и хорошо, что нет! Пусть и вовек не будет — не загрущу! — смотрит куда-то поверх матушки Марьяна, пританцовывает на месте и подсмеивается.
Попадя оглядывается вокруг, вздыхает:
— Прости, господи, согрешения наши, вольная и невольная… Запомни, безбожница, мое слово: будут тебя вскоре тянуть куцехвостые в самое пекло и только одними новыми веревками, а то старые не выдержат.
— Ги! Пока они себе натреплют конопли и насучат веревок, так я еще наживусь.
— Вот пусть меня убьет крест золотой, — била себя раздутой рукой в подпухшую грудь попадья, — если не бросят тебя хвостатые на самое днище геенны огненной.
— И там, говорят, матушка, есть люди!
— Свят, свят, свят. И что ты, богопротивная, говоришь и уже заранее ищешь кумпанию в аду? Сгинь и исчезни из моих глаз, нелюдимка!
— Куда же, матушка, исчезнуть: до скота, на прополку или на луг? — смиренно спрашивает Марьяна, а с кончиков ее ресниц капает молодое жизнелюбие.
— Революционерка! — наконец вопила матушка, сама пугалась этого слова, сразу же руками сдерживала сердце, а глаза поднимала к небу: — Прости, господи, согрешения наши, вольная и невольная, прости и остави…
А служанка, болтая юбкой и косами, уже проворно бежала на скотный двор или на огород и везде роняла на тропы и дорожки неунывающий смех или песню. В селе, кто знал Марьяну, жалели ее, желали добра и хорошего жениха, который имел бы земельку и славно хлебопашествовал.
«Так вот кто мне сможет пособить — найти у попа какую-то книгу, и чего раньше не додумался до такого?» — веселею я, уже не прислушиваясь, как наслаждался пастушок за панотчевским столом.
— Ну, беги на обед, а то попадешься на смык, — наконец говорит Петр и вынимает из кармана свою единственную игрушку — огниво из напильника и кремень с Карпатских гор, где воевал с австрияками его дядя.
Стерней и картофельниками я скатываюсь к никитскому пруду, где были вот такие карпы, пока их не выглушили бомбами. Здесь серебрено журчит синяя-синяя луговая вода, я наклоняюсь к ней, пью ее пение и прислушиваюсь к шелесту сена. Я очень люблю, как поет вода, — весной она с ревом бурлит по всей долинке и, запенившись от ярости, рвет плотины, летом — едва-едва наигрывает в свирель, а зимой только иногда спросонья пискнет, как вьюн, и снова спит.
А вы слышали, где и как она просыпается? Вот в начале весны пойдите к трем яружанским прудам, где Коротыш Михаил проживал, и вы увидите солнечно раструшенный по снегу орешниковый цвет, а под снегом услышите неожиданно какой-то всхлип и голос жаворонка, и снова всхлип, и снова голос жаворонка. Вот уж и знайте — проснулась вода и дует в прошлогоднюю расколотую трость очерета, а та, дурочка, еще не поняла, что наступает весна, и чего-то всхлипывает себе.
Обойдя в долинке позднее метельчатое просо, я выскакиваю на дорогу и сразу догоняю драбиняк горшковоза Терентия. Ссутулившись, старик качается на передке, а за ним на настиле уселась черная, как скворцы, мелкота с глиняными лошадками в руках. Глаза у лошадок большие, гривы пышные, венками заплетенные, а хвосты до самых копыт достают; глянешь на такую скотину — обрадуешься и пожалеешь, что не имеешь ее у себя. А дед Терентий каждый раз над новой скотинкой мудрит, чтобы развеселить ею и людей, и своих внуков, хоть сам уже и расстался с радостью: гетманцы повесили Терентиевого сына. Теперь хоть и беззащитно стало старому горшечнику на свете, но он не расстается со своей мелюзгой, даже едет с ними в далекие села на ярмарку. Ну, а детям дорога всегда радостная невидаль.
На телеге слегка потарахкивают краснобокие, в обливке, миски, на днищах которых покоятся подсолнухи, цветы и солнце; перехватывают ветерок зеленоватые и сизые, словно в них до сих пор не растаял иней, кувшины; раскапустились макитры и рынки[15], возгордились горшки-двойняшки, что в них даже целый обед понесут добрым людям; прочнеют горловые горшки, в которых бы поместился и я и горшечникова костлявая мелкота; цветут бокастые куманцы[16], зацепленные забавными пьяноглазыми головками барашков, мол, кумоваться, человече добрый, можно, но бараньей головы не напивай.
Окинув взглядом все это добро, я радостно кричу старику:
— Дед Терентий, дайте лошадку!
— А кнута не хочешь? — оборачивается ко мне прокаленный огнем и солнцем гончар.
— А кнута не хочу, — смеюсь я, улыбается в полуаршинные усищи гончар и дружно подсмеиваются гончарята, смех у них тоненький и сходится в единое целое, как две ниточки. — Дадите, дед?
— Подрасти немного.
— Да, подрасти! То же самое вы говорили мне и в прошлом году.
— Действительно говорил в прошлом году? — хитрит старик. — Наверное, придется дать, если поможешь крутить круг.
— Помогу, еще как!
— Тогда приходи завтра.
— А лошадку — сегодня?
— Тоже завтра.
— И где вы будете стоять?
— На Королевщине. Может, подвезти? — приглашает на воз узловатой рукой, в которую въелась глина.
— Да нет, боюсь, чтобы ваши миски не потолочь.
— Хозяйская ребенок.
— А как вы думаете!
Гончар снова улыбается, а я, довольный разговором, под вековыми липами бегу и бегу к селу. Мягкая теплая пыль кустами вырастает из-под ног, а над головой едва-едва шевелится уже прихваченная холодными рассветами и свежими росами листва. С дороги поворачиваю не к своему дому, а на пересечение улиц, за которыми в переулке дремлет в сирени поповский дом. Навстречу мне со двора двумя клубками бросаются гончие, а самый старый неповоротливый пес, словно впаян, неподвижно стоит на каменных ступеньках и так лает, словно по команде выбивает в барабан.
С огорода не бежит — вихрем вылетает Марьяна. Юбка из красной байки вьется вокруг ее легких босых ног, в волосах качается лохматенькая гвоздичка. Вот девушка махнула рукой, и во дворе сначала стихает рычание, а дальше успокаивается и барабан.
— Ой, Миша к нам пришел! — с такой радостью говорит Марьяна, словно я ее ближайший родственник. И глаза ее, голубые, с сизым туманом, мягко освещают меня, а руки поправляют мою рубашечку и картузик. Потом она посматривает на дом и тихо спрашивает: — Ты, может, Миша, есть хочешь?
— Нет, не хочу, — я чувствую, что краснею, и отвожу взгляд от Марьяны.
— Не стесняйся, глупенький, — приближаются ко мне черные веночки ресниц, а под ними лежат и глубокая степная даль, и такая доброта, которую вовек не забудешь.
— Я не стыжусь, Марьяна… Ты не подумай. Я уже обедал, и так начесночился…
— Начесночился? — смеется девушка. — Ой горе мое: нашел чем похвастаться.
Теперь я веселею:
— Таки есть чем: у нас головки чеснока прямо как у меня кулаки.
— Чтобы еще сало к нему было.
— И сало у нас есть борщ толченным заправить.
— Чем не богачи, — печалится Марьянино лицо. — Тебя мать ко мне прислали?
— Нет… Я сам пришел.
— К кому?
— К тебе, Марьяна.
— В самом деле? — снова искренней радостью светится девичье лицо. — Вот молодец! А я вот недавно подумала и загрустила себе: кто меня вспомнил и перед праздником проведает? Родня ведь моя далеко-далеко живет, — нахмурилась и вздохнула девушка, и уголки губ ее стали печальными. И чего только ресницы говорят, что она никогда не печалится?
— Марьяна, у меня дело к тебе, — не знаю, как и начать о своем.
— Так говори!
— Ты можешь найти мне какую-нибудь книгу?
— Кому-то на курево или себе читать?
— Себе.
— Ой, не могу тебе, Мишенька, помочь: поп все книги, как невольников, запирает, — грустнеет девушка, и грустнеет в ее волосах красная лохматенькая гвоздичка.