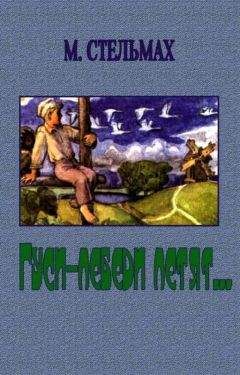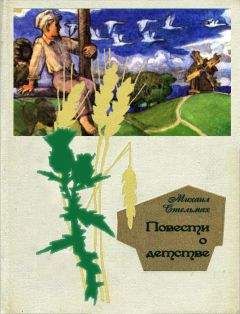— Себе.
— Ой, не могу тебе, Мишенька, помочь: поп все книги, как невольников, запирает, — грустнеет девушка, и грустнеет в ее волосах красная лохматенькая гвоздичка.
— Как невольников? — повторяю я.
— Если бы не запирал, я украдкой с самого огня вынесла бы тебе… Вот горюшко, и все! И чем только пособить моему Мише?.. Правда, ты мой? — уже веселеют глаза, губы и все три ямки Марьяны.
Я стесняюсь, не знаю, что сказать, и переступаю с ноги на ногу.
— Да ты не печалься, перегоди без книги, а я что-то придумаю на радость попу или попадье.
Марьяна, смеется, хватает меня за руку, и вот уже мы во весь опор бежим к просторной поповской кухне. Здесь чисто, как на Пасху.
В холодной, переворачиваясь, играют котята, на скамье попискивает тестом заколоченная квашня, а с барского посудника так пахнет сладкими блюдами, что у меня сразу идет кругом голова, а внутри просыпается голод. Марьяна метнулась к посуднику, выхватила из какой-то голубой, в лилиях, посуды пирожные, посыпанные настоящим сахаром, и начала запихивать в мою сумку.
— Потом съешь себе. Вкусные — сама пекла, сама и хвалю! И подожди меня одну минуту.
Она заговорщицки приложила палец ко рту, припала ухом к двери, ведущей в покои, и сразу исчезла в них. Вскоре вернулась, таинственная и радостная, крутнулась на месте, — этого только и надо было котятам — они сразу же повисли на ее юбке.
— Вас только мне не хватало! — Марьяна осторожно высыпала приставал за печку и тогда стала передо мной. — Мишенька — украла!
— Что? — стыну от радостной догадки.
— Вот! — девушка полуоборачивается, достает из-за пазухи книгу в фабричном переплете, торжественно подает мне, а глазами осторожно оглядывается на дверь. — Пусть теперь попоищут ее!
— Спасибо, Марьянка, большое спасибо, — беру книгу, не зная, как и куда ее спрятать.
— Не за что. Учись, Миша, учись, дорогой, может, хоть ты не будешь таким темным, как мы. А выучишься, не пренебрегай нами, — вздыхает служанка, машет рукой перед глазами, словно отгоняет от них печаль, и переводит взгляд на книгу. — И за сколько ты можешь ее прочитать?
— Да за два дня и прочитаю.
— За два дня? — удивляется Марьяна. — А я, наверное, за всю жизнь не прочитала бы. И что там только пишут мудрые головы? Прочти мне, Мишенька, хоть немножечко, — она, прислушиваясь, закрывает сенные и комнатные двери на щеколды, а я рассматриваю книгу, и у меня темнеет в глазах.
— Что такое, Миша? — испугалась Марьяна. — Ой, это, может, с безобразием? — Девушка, что-то вспомнив, краснее и выхватывает книгу из моих рук.
— Ты чего, Марьяна? — и с удивлением пожимаю плечами.
— А чего же ты таким стал, когда заглянул в нее? — осторожно полистала несколько страниц.
— Потому что она написана не по-нашему, — беру книгу и смотрю на чужое, непонятное письмо.
— Не по-нашему? Вот удружила тебе! — покачала головой Марьяна. — Кто же его с мужицкой грамотой разберет, как эти книги пишутся? — Она задумывается, а дальше решительно: — Ну, ты не грусти! Догнал не догнал, а побегать можно. Пойдем сейчас к панычу и попросим у него нашенскую книгу.
И вот мы оба стоим в просторном покое перед большим (на нем и спать можно) столом поповича; его недавно революция выдворила из какого-то киевского института. Головастый, вислоносый паныч внимательно выслушал Марьяну, поднялся и долго примеряется ко мне темным с насмешливой влажностью взглядом, останавливает его на моих ногах, и я начинаю стесняться их, грязных, потрескавшихся и поцарапанных стерней, начинаю стесняться своей простой полотняной одежды и сумки, которая прожигает мою спину поповскими пирожными с настоящим сахаром.
— Так-так, хочешь очень умным стать? — наконец, спрашивает попович.
Я чувствую коварство, насмешку в его вопросе и тихо отвечаю:
— Хочу что-то почитать.
— Теперь все чего-то хотят, даже вот такая мелкота, — тюкнул меня словом и прожег глазами паныч, а дальше поднял голос на Марьяну: — Можешь, девка, идти к своей работе! Ты ее всю переделала?
— А кто же ее всю переделает?.. Прощай, Михайлик, — подбадривает меня глазами и высокими удивленными бровями. — Паныч непременно даст тебе хорошую книгу.
Марьяна, красиво покачивая фигурой, вывевается из комнаты и уже с приоткрытых дверей передразнивает поповича. Я чуть не прыснул от смеха, но в это время ровно входит в старом подряснике сивогривый батюшка. Из-под его подрясника видны штаны, и это меня очень удивляет — почему-то до сих пор я и подумать не мог, что попы ходят в штанах.
— Вот, отец, ни село ни впало, имеем себе нового читателя, прошу любить и жаловать, — говорит отцу сын, и они оба начинают смеяться.
Я пеку рака и молча стою на одном месте, раскаиваясь, что пришел сюда. Стыд, упрямство и гордость соревнуются во мне, а к глазам предательски подкатывают слезы. Я никогда не был нытиком, терпеливо сносил и кнут, и лозину, и подзатыльники, а это так заболело и достало.
Вдруг отец с сыном заговорили не нашим языком, еще осмотрели меня, как малого грешника, потом паныч открыл широченный шкаф, и я увидел перед собой целое богатство в потемневших золотых, серебренных, кожаных и обычных переплетах. Даже не верилось, что у одного человека может быть столько книг; бери из них ум и радость и не печи кого-то, у кого и одной книги нет. Попович, что-то мурлыча, долго перебирал их, наконец, достал одну из тонких, сдул с нее пыль, показал попу. Тот пожал плечами, удивился, но ничего не сказал.
— Вот тебе очень ученая книга — набирайся ума. Прочитаешь — принесешь! Только не замарай ее — перед чтением руки вымывай! — ткнул мне книгу попович.
Кое-как выдавив несколько слов, я выбираюсь из поповских покоев. На каменных ступеньках мои ноги сразу оживают, а от сердца и глаз отступает горечь. Я подпрыгиваю и мячом вылетаю со двора. Вдогонку раздается смех поповича, запоздалый лай гончих и старого пса…
— Свят, свят! Или за тобой, сын, сто волков гналось, или что-то дымилось под ногами? — обеспокоенно встречает меня, запыхавшегося, на пороге мать.
Я гордо поднимаю вверх книгу и говорю только:
— Видели?
— Отхватил-таки где-то? Наверное, из-за твоих похождений нигде собаки не имели покоя? — мать успокаивается, снисходительно складывает на груди руки и, прислушиваясь к своим мыслям, покачивает головой.
Что ей думалось тогда, моей сельской босоногой Ярославне, перед человечностью, скромность и мудростью которой я до сих пор склоняю свою уже седую голову. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы возле нее не стояла, как заклинание, моя грустная мать. Я до сих пор чувствую на своем лбу, возле своего сердца покой и тепло ее почерневших, потрескавшихся рук. Может, потому его и было так много, что оно держалось не на поверхности, а в глубоких трещинах материнских рук…
В первые годы после революции страшные лишения законопатили нас в старый дедовский сарай. Здесь мы кое-как оборудовали голодранскую хижину на два подслеповатых окошка. Чтобы они казались лучше, перед ними мать посадила малину, а зимой между рамами клала кисти рябины. Чего в этой хате было много, так это дыма и сверчков.
Эта чертова животина, казалось, собралась со всего села на наше убожество и несколько лет без умолку пиликала на своих трещотках, а по ночам ордой рыскала везде и всюду. От нее мы прятали хлеб на чердаке, а люди нам советовали пойти к одному колдуну, который умел выводить всякую нечисть.
Скоро отец стянулся на старую коровенку, которую поставил в загородке возле хаты. Просыпаясь ночью, я часто слышал за стеной глубокие и печальные вздохи, сначала пугался, а потом снова спокойно засыпал. Но недолго побыла у нас коровенка. Когда я окончил сельскую четырехлетку, отец решил отдать меня в науку к глухому и бешеному сапожнику, который умел не только переводить кожу, но и знал, как переводить красоту и здоровье своей большеглазой и покорной, как богоматерь, жены. Швец был уверен: если муж жену не бьет, у нее утроба гниет.
Моя мать стеной встала между мной и ремеслом сапожника. Она умоляла, ругалась, плакала, ночами не спала и отцу не давала спать, настаивая, чтобы он отдал меня учиться дальше — в школу крестьянской молодежи, которая была в двадцати верстах от нашего села.
— Если бы ты была немного умнее, то я бы тебя недоумком назвал, а теперь уж не знаю и как! — сердился отец. — Из каких доходов я его учить буду, когда такая нищета нас обсела? Если бы можно было руки отдать в залог, отдал бы до последнего пальца, а сам пошел бы по ярмаркам за нищенским хлебом.
— Ты же сам видишь, Афанасий, как он дрожит по науке. Сделай что-нибудь, Афанасий.
У отца от бессилия и злости брались изморозью глаза, а в жилах на висках прибывало крови.
— Хоть ты меня живьем не пили. Что я могу сделать, когда, где ни встану, на злыдни наступаю.