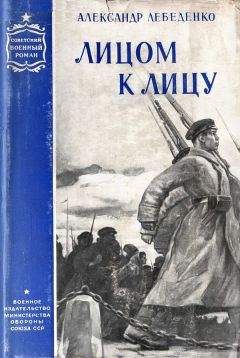Отвечать Степану стало для Ветровых важным делом. Они решили было заниматься с ним регулярно, но Февраль выкинул на улицы и на заводы тысячи ораторов. Революция кричала в уши молодому рабочему Степану. Она была ему по характеру. Спрашивать теперь было у кого. Он опять встречал Ветровых только на ходу. Кепка у него спрыгнула совсем на затылок. Прядь волос била по носу, правое плечо поднялось и выдалось вперед, как у человека, который идет против ветра, и на боку в черной кобуре повис полученный на верфи в красногвардейском отряде револьвер.
Глава X
ЛЮБОВЬ ПОРУЧИКА ВОРОБЬЕВА
Анастасия Григорьевна Демьянова вошла в комнату стремительно и остановилась только у рояля. Музыка оборвалась на высокой, фальшиво прозвучавшей ноте, и Маргарита, не снимая пальцев с клавиатуры, вопросительно посмотрела на мать.
— Рано начинаешь… я полагаю… — Поправляя юбку, Анастасия Григорьевна устремилась обратно в свой будуар. — Сними сейчас же. — Это уже из-за двери. — Надень глухое платье.
Губы Маргариты выступили вперед, и из-под пальцев вырвалась капризная, бойкая трель. Она осмотрела свои круглые плечики, полуприкрытые газом. Это голубое платье с низким вырезом сделала ей мать. Почему же нельзя его носить? Сама Анастасия Григорьевна говорит, что женщине столько лет, на сколько она выглядит. Почему же это неприменимо к ней, к Маргарите? Пышные плечи и полные руки в пятнадцать лет бывают не у каждой, и не каждая сознает себя на шестнадцатом году хорошенькой женщиной.
Маргарита лениво плыла на носках по гостиной, оглядывалась во все многочисленные зеркала.
— Ты еще девчонка и уже любишь, чтобы на тебя пялили глаза, — продолжала Анастасия Григорьевна. — Не понимаю удовольствия… Не беспокойся — твое придет и никуда не денется. Если бы папа был жив, он пришел бы в ужас. Дочь профессора Демьянова!..
«Как это пялят глаза?» — размышляла Маргарита. Она повела плечом и выставила ножку в синенькой туфле.
…У Леонида Викторовича глаза загораются, а у Синькова темнеют. У Степы Коломийцева глаза всегда тусклые, а когда он жмет ее руку, становятся влажными и до противности мутными.
— Кто приходит сегодня? — по-мужски, глуховато звучал голос матери из будуара. Она расчесывает свои черные косы перед трюмо, и у нее во рту шпильки.
— Леонид Викторович, Синьков, может быть, придут Ветровы…
— Пожалуйста, в двенадцать изволь прощаться и — спать, а Петру скажи, если сядут играть, чтобы больше двухсот не проигрывал. Не везет — пусть бросит. Я буду к трем-четырем. Оставьте мне чай и бутерброды…
Между четырьмя окнами гостиной струятся черные стекла узких зеркал, с краями в застывших радугах. От ковров, от ворсистых бордовых скатертей, от глубоких теней абажура комната кажется мохнатой.
Поручик Воробьев шагает размашисто и твердо. Шаги и шпоры глушит ковер. На хрустальной полке вздрагивают два самурая с мечами. У поручика рост выше шести футов и фигура кузнеца.
— Я вам звонила и вчера и позавчера, а вас не было. Ваша Куделя сказала, что вы уехали.
Поручик остановился перед девушкой, звонко сложив каблуки.
Она была ему ниже плеча.
Воробьев крепко взял ее за подбородок.
Девушка сердито ударила его по руке.
— Напрактиковались с горничными? По-солдатски…
Поручик вдруг ушел в себя. Отошел. Зашагал еще резче. Ему хотелось, чтобы под сапогами вместо ковра звенели камни мостовой. Эта девчонка попала в цель. Ах, как бы он зашагал именно по-солдатски, по хорошей дороге, впереди рядов, забыв об этом разлагающемся городе, о гибели армии и страны.
Маргарита заметила отчуждение поручика и, приближаясь к нему, говорила, кокетничая:
— Я надела для вас декольте. А мама велела снять. Не скажете — надену опять. — И она выпрыгнула за дверь.
Поручик раскрыл серебряный портсигар и вынул из-под папирос крохотные клочки бумаги. Он разорвал это письмо, забыв переписать адрес. Проклятая улица вылетела из головы. Фамилия — братья Карелины. Но улица? Номер дома есть. Надо вспомнить во что бы то ни стало… Закрепить связь, взять деньги… Он оглянулся — сам заметил: новая привычка — и расправил клочки на крышке портсигара. Сосредоточенно смотрел. Клочки никак не складывались. Он переставлял под столом длинные ноги, тер переносицу. Так скучающие холостяки разгадывают ребусы и кроссворды на последних страницах журналов.
Маргарита неслышно подобралась по ковру и свеженапудренными руками обвила шею поручика.
Поручик расправился во весь рост. Огромный кулак зажал портсигар и бумажки. Девушка от толчка упала на тахту. Воробьев стоял прямой как столб. Напряженные плечи поднялись. Он дышал как после долгого бега.
— Медведь! — крикнула Маргарита. — Петля спустилась… Все порвал… — Она, не поднимаясь, перебирала в пальцах золотистую сетку.
— А вы не шутите… так…
— Как это так? — передразнила девушка.
Поручик спрятал портсигар в карман, шагнул к тахте и легко сорвал девушку кверху.
— Оставь, — пропищала маленькая женщина. — Оставьте!
В передней позвонили.
— Я ведь все понимаю, — уже мягко сказала девушка. — У вас секреты…
— Ничего вы не понимаете, — серьезно сказал поручик. — Нечего понимать.
— Петька пришел, а то бы я сказала…
— Потеха с вами, — засмеялся офицер и призывающе протянул руки вперед.
Но девушка состроила нос и ускользнула к роялю.
— А, вы здесь уже? Это хорошо. Сейчас весь синедрион пожалует, — громко сказал Петр. Он был высокий, худой, со слишком смелыми кудрями и женскими губами колечком. Он вытирал руки полотенцем на пороге.
— Я рано уйду… — сказал Воробьев. — У меня не выходит.
— Пока не совершим кровопускания — не пустим, — уверенно сказал Петр, исчезая в коридоре. — Без вас какая же игра?..
Звонок следовал за звонком.
Близнецы Ветровы сели на кушетке и вооружились семейными альбомами. Студент Степан Коломийцев взгромоздился на подоконник. Он разбирал давно знакомые ноты. От предчувствия карт, азарта у него ёкало сердце. Оно стучало тем сильнее, чем меньше у него было денег.
Закинув ногу на ногу, Воробьев одиноко сидел в углу и курил. Молодежь, бывавшая у Демьяновых, любила этого большого человека, по первой просьбе и с добродушной улыбкой гнувшего между пальцами медные пятаки. Деньги он раздавал с легкостью, которая порождала мысль если не о богатстве, то о постоянных источниках дохода. Проигрывал он помногу и быстро. Выигрывая, половину раздавал в долг.
С семьей Демьяновых он был связан еще с тех пор, как племянник профессора, товарищ по институту, привел его на один из четвергов. Воробьев смущался своей недостаточно франтовской тужуркой, жался по углам, но был принят хозяевами приятно и доброжелательно.
Разумеется, в те дни не могло быть и речи о той интимности, какая зародилась и укрепилась после смерти профессора и в особенности в дни революции.
Временами, как, например, сейчас, когда Петр расставлял ломберный столик и укладывал на нем столбиками золотистые фишки, Воробьеву становится жаль, остро жаль того немного чопорного, но приятного, барственного уклада жизни, который господствовал в этой самой квартире. Сам профессор в молодости сочувствовал народникам и даже пробыл три года в ссылке где-то около Вологды, но выдвинувшись и на научном и на служебном поприще, стал лейб-медиком и политикой больше не интересовался. Убеждения его как-то сами собой слиняли, утряслись, отяжелели и опростились. Близость ко двору и аристократическим особнякам создавала далеко не демократические привычки. Знакомые не без основания считали, что, несмотря на близость с некоторыми кадетскими лидерами, профессор Демьянов далек от всяких мыслей, несовместимых с его придворным званием.
В большом кабинете Демьянова на видном месте красовался стол, крытый зеленой скатертью, на котором в массивных рамках стояли портреты великих князей с крупными росчерками через все паспарту. В знак того, что прошлое не забыто, в другом углу были собраны тусклые любительские снимки, на которых студент и административно-ссыльный Демьянов, кудрявый и задумчивый, был представлен в кругу демократических друзей и родственников.
Теперь «высочайшие» портреты были вовсе изъяты из обращения, а народники заняли почетное место в гостиной. Воробьев всегда проходил мимо этого иконостасика с улыбкой презрения и досады. В его трезвой голове не так-то легко было сместить крепкие представления о ценности вещей. Он знал цену и рублю и его влиянию. Отец его, почти на глазах сына, выбился из положения крестьянина-середняка в зажиточного хозяина. Когда Леонид подрос, оказалось возможным отправить его в город, в гимназию. Сын деревенского богатея оказался захудалым среди детей городской интеллигенции. Смеялись над его черными ногтями и неуклюже скроенным костюмом, над деревенским говором и нелюбовью к воротничкам и носовому платку. Но способностями и усидчивостью Леонид покорил педагогов, а необычайной силой и бесстрашием — товарищей по классу, которые не только примирились с ним, но и стали заискивать, добиваясь его дружбы.