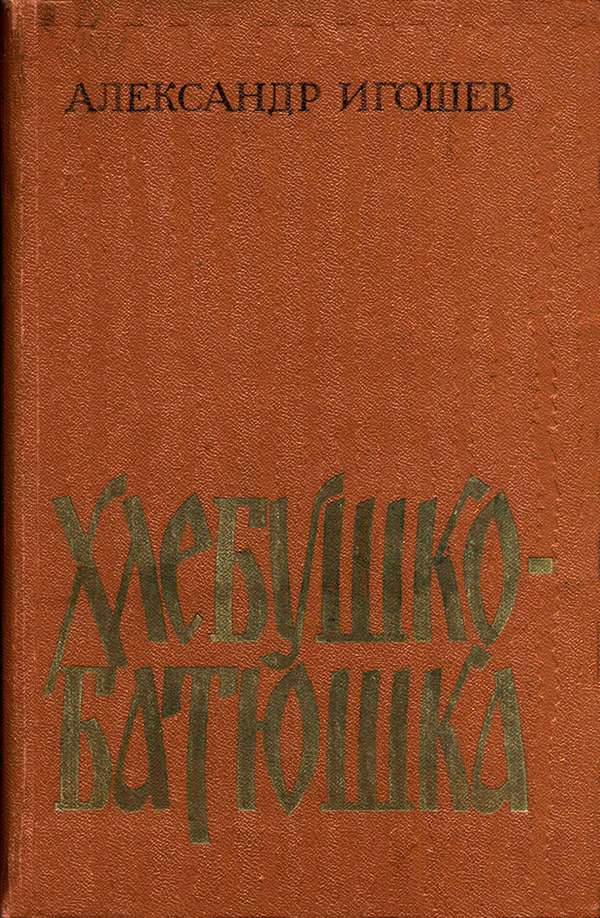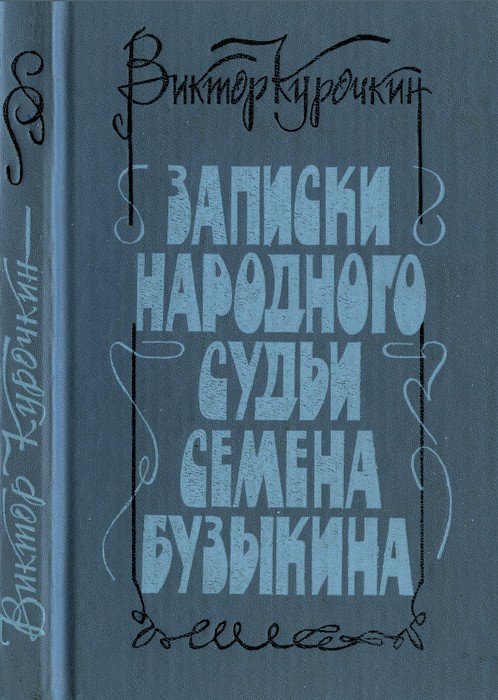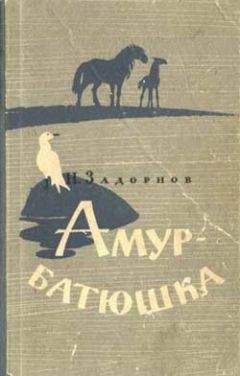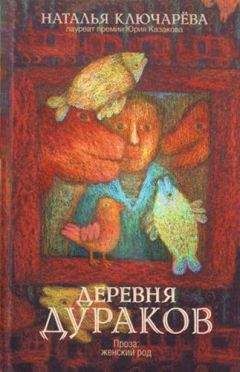где он находится, метался худой, давно не бритый, со страшной раной в голове человек. Его без оружия и документов подобрала похоронная команда и передала полуживого санитарам.
Мы лечили его безо всякой надежды, кормили насильно, с ложечки; медсестры плакали, глядя на его истощенное тело. Никто не верил, что он выживет, — это было неестественно, нелогично, но именно так случилось, и это навело кое-кого на мысль, что случай всемогущ, что, может, и сама жизнь — великая случайность…
Парфен Сидорович вернулся с того света изголодавшийся, еле-еле душа в теле, но с веселыми глазами, и первое, что попросил, — мясных, разваристых, с капустой и картошкой, жирных домашних щей. Ему принесли. Он хлебнул ложки две, и его замутило. С тех двух ложечек и пошел он жить.
Он просит передать Вам самый горячий сердечный привет, что мы и делаем.
С уважением, бывшая студентка астрономического отделения университета, а теперь медсестра
Пепеляева».
Припомнился последний в больнице разговор. Павел Лукич горько упрекнул перенесшего инфаркт Богатырева:
— Беречь себя надо. Ты одержал верх. Но разве меньше стало ловкачей и пройдох? Изжили мы обман, лихоимство, стяжательство, лицемерие, примазывание к чужим открытиям, воровство идей?
— Нет, конечно, — согласился Богатырев.
— Людские пороки — это ведь гидра: сегодня ты отрубил ей голову, а завтра у нее вырастет две новых. В генетическом коде человечества много такого, что надо бы выжечь каленым железом, это передается из поколения в поколение, и тут наука пока ничего сделать не может.
— Но кто-то должен бороться с Грацианскими, — сказал Парфен Сидорович. — Тебе всю жизнь было некогда заниматься этим делом. Ты божьей милостью селекционер…
— И ты селекционер! — высказал свою главную мысль Аверьянов. — Ты — талант. Ты во сто крат талантливей меня. Зачем же погубил то, что было отпущено тебе? Ради сиюминутных печалей наших…
— Ты уж тоже сказанул — талант. Способности у меня самые обыкновенные. Селекцией, ты знаешь, я занимался до войны.
— И отдал свою рожь другим!
— Или это плохо?
— А помнишь, какой у тебя был овес? Звон стоял в поле. Но тебе некогда было довести сорт до конца.
— Это за меня сделали другие.
— Легко тебе все давалось, вот ты легко все и отдавал.
— В чем ты меня обвиняешь? Ну стал бы я доктором наук, академиком и прочая и прочая. А я рад, что отдал все свое людям, увлек их важным делом, и если в чем виноват, то разве в том, что мало для них сделал. Ты прав: нас окружают не ангелы во плоти. Люди науки и вино пьют, и друг друга обманывают, и подличают, и за властью и за деньгами гонятся; таких предостаточно. Работы тут достанет — вычерпывать эту грязь — и нашему и последующим поколениям. Помнишь, мы учили в школе: бытие определяет сознание. В жизни не так-то все просто. Алкоголик ведь знает, что пьянство — вред. Вор с научным дипломом в кармане не заблуждается насчет того, что воровство — порок и карается законом. Вот и выходит, бытие у них свое, особое, хотя и живут они в нашем обществе. Мы были просто наивными, когда верили, что достаточно изменить условия жизни, и все пойдет как по-писаному.
Павел Лукич покачал головой: горячись не горячись — они думают розно, говорят вроде бы об одном, а думают — каждый о своем.
Влажное утреннее небо в разводьях просохло. Пахло мятликом, клевером, ромашкой, хлебами. Павел Лукич раздул ноздри. Над полем поднимался парок.
…Давно ли здесь, разворошенная плугами и боронами, опутанная старыми корневищами, парила земля?
…Вот зерно лежит во вспаханной и забороненной земле. Вот из него проклюнулся белый росток, и побежали зеленые, пробившиеся сквозь корку побеги. Темно-серая с супесью земля, и на ней правильными рядками светло-зеленые стрелки-листочки. Это было всегда красиво. Листочки превращались в стебли, затем стебель выходил в трубку. В июле они вымахивали до колен, и на них цвели обсыпанные пыльцой колосья. Пыльца пахла тонко и пряно, мазалась — тронь пальцем, и на коже оставался беловато-желтый след. Он переносил ее с одного колоса на другой, завязывал его марлей и ждал налива. Колосья созревали крупные и длинные, шел от них запах хлеба, земли и солнца. Не терпелось — срывал не поспевший еще колос и, разглядывая неокрепшую клейковину, задавал себе один и тот же вопрос: где, как и когда потеряло свои новые качества зерно?
Этот вопрос задавал он себе и сегодня.
2
Богатырев обошел в первую очередь участки трав. Вика с овсом. Привычное, давно изученное сочетание. Смесь разрослась густо; вика покрыла землю, как войлоком, толстым слоем; зеленые метелки овса поднимались над нею. На контрольном участке они были тощи и редки, стебли присохли и побурели; удобренья — великое дело, это становилось тут ясным всем.
На участке цветущей мелкими желтыми цветками люцерны он постоял, любуясь ровным травостоем и вдыхая тонкий, особенный аромат этого растения. Задумчиво глядел он на костер безостый — под его покровом кустилось у земли обильное разнотравье; тут были и гусиная трава, и пастушья сумка, и медуница. Костер, любящий влажные пойменные места, был здесь не так высок и широколист, как в приречье, но веяло от него запахами цветущей поймы и сырых приречных и заозерных луговин.
На посевах клевера Богатырев задержался. Он ходил вокруг участков, присаживался на корточки, гладил рукой листья-тройняшки, прохладные от ветра и от сошедшей утром росы. Чистые белые, как у кашки, головки, только много крупней, мягче и медовитее, выглядели шелковистыми. На красном клевере цветы были ярче, они отличались оттенками — от алого, розового до вишнево-красного; полуспрятанные в зеленом травостое цветы выглядывали из своих укрытий как живые; ветер шевелил их, волновал облиствленные стебли, и это волнение передавалось Богатыреву.
Чем ближе подходил Богатырев к пшеничному полю, тем больше волновался.
Он увидел Лукича на краю поля. Выглянуло солнце, осветило пшеницу, вызолотило соломенную шляпу с низкой тульей и широкими, загнутыми кверху полями, лежавшими на сутулых плечах Лукича. Вот уж кто верен себе до конца. Утро, день, вечер, будни, воскресенья, дождь, зной, ветер — торчит у пшеницы. Тут его семья, родные, знакомые, друзья… У Парфена Сидоровича защипало глаза. Он остановился. Друг бесценный, единственный, верный сидел перед ним. Как он похудел — вон обвисла куртка по бокам, и сутулится сильней обычного. Какой это был в молодые годы здоровяк! Выездила, согнула жизнь мужицкого сына Павла Аверьянова.
Ну, ну, да обернись же, Лукич, оглянись. Почувствуй, кто пришел к тебе…
Словно услышав его немой зов, Павел Лукич оглянулся, узнал,