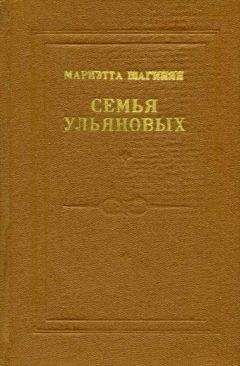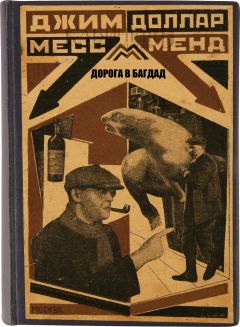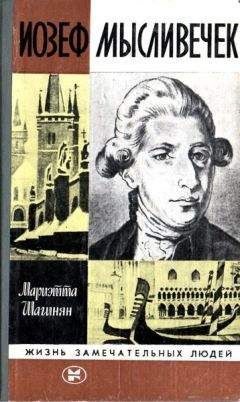И дальше перечислялось, что играли на этих собраниях. Перед Марией Александровной мелькнули имена Гайдна, Бетховена, Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Шпора, Феска, Рейсигера… а за ними фамилии исполнителей. Но разобрать их она не смогла: тень упала на строчки — это Илья Николаевич подошел сзади и через плечо ее стал тоже читать документ. Он читал медленно, добросовестно шевеля вслед читанному губами, и вдруг остановился, нахмурившись. Образованный класс, среди образованного класса!.. Как будто любовь к музыке не родилась в народе, как будто не поет, не играет народ…
— Что вас тут остановило? — грудным, приятным голосом спросила, подходя к ним, директорша, а вслед за нею и другие гости, беседовавшие ранее с директором. Медленно, шагая вразвалку, подошел и сам Константин Иванович.
— Да вот ссылка на образованные классы… — прокартавил Илья Николаевич, быстро оборачиваясь и делая любимое свое движение плечом, выражавшее недоумение. — Немцам тем более стыдно писать это. Немцы так много исследовали народную песню… Разве одни только высшие классы любят музыку?
— Ах, господин Ульянов, речь не о народе, не о деревенском мужике. Посмотрели бы вы, какое общество застал тут папаша!
— Александру Дмитриевичу пришлось изрядно потрудиться над здешними жителями, чтобы превратить их в меломанов! — вставил Садоков и свое слово.
А молодой человек с милым славянским лицом, кого здесь называли Александром Серафимовичем, стал подробно рассказывать об отце директорши, Александре Дмитриевиче Улыбышеве.
Впрочем, про Улыбышева Ульяновы и сами уже знали. Как-то, проходя с учителем рисования Дмитриевым по Малой Покровке, они увидели большой каменный особняк. Пять лет назад умер его хозяин, и весь Нижний шел за гробом, сказал их спутник. И как много интересного услышали они об этом большом барине, засыпавшем, словно в тридцатые годы, только под сказки своей дворовой нянюшки; об его прелестном помещичьем доме в Лукине, где учитель рисования бывал не один раз; о страстной его любви к музыке, к театру, о квартетах, составлявшихся у него на дому, об его почти что религиозном культе великого Моцарта!
— Я не знала, что вы урожденная Улыбышева, — сказала Мария Александровна, внимательней вглядываясь в пухлое, круглое лицо директорши с умными, немного властными серыми глазами. — Ваш батюшка имеет печатные труды по музыке?
— Вот они, — отозвалась директорша и тотчас невольно перешла на французский язык, может быть потому, что книги отца были написаны по-французски: — Ils sont bien disputes dans le monde musical.[7]
— Et bien connus,[8] — тотчас же вставил Садоков.
Мария Александровна взяла из рук директорши три маленьких томика с длинным заглавием: «Nouvelle Biographie de Mozart, suivie d’un apercu sur l’histoire générale de la musique et de l’analyse des principales oeuvres de Mozart par Alexandre Oulibicheff, membre honoraire de la sociéte philharmonique de St.-Petersbourg».[9] Они были изданы в Москве ровно двадцать лет назад.
— Дискутируют, собственно, главным образом не «Моцарта», а вторую, вот эту книгу папаши, — добавила уже по-русски Наталья Александровна, протягивая ей ноны и, отлично изданный том. — Она вышла только за год до его смерти за границей.
Вторая книга выглядела солидней, и заглавие ее было чуть короче: «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs».[10]
— В нашей семье очень любят Бетховена, — краснея, сказала Мария Александровна. Ей захотелось прочитать обе книги, попробовать этот чудесный концертный рояль Садоковых. А среди гостей пошли бесконечные воспоминания об Улыбышеве.
Александр Дмитриевич был действительно колоритнейшей фигурой в колоритном Нижнем Новгороде, и зять его нисколько не преувеличил, сказав, как много пришлось ему потрудиться, чтоб сделать из своих сограждан меломанов.
— Не в народе, а именно в нашем так называемом высшем обществе был дикий взгляд на музыку, и с ним пришлось бороться Александру Дмитриевичу, — горячо заговорил Александр Серафимович.
Шепотом справившись у соседа, Илья Николаевич узнал, что фамилия молодого оратора Гацисский. А тот продолжал:
— Чем занято было общество? Единственные разговоры: кто сколько нанес кому визитов или кто сколько полек отхватил без передышки. В театре судили не пьесу, не игру актера, а пышные формы госпожи такой-то на сиене… Это сейчас мы говорим о судебной реформе, о волостных судах, о судах присяжных, а в те дни прислушались бы вы к нашему образованному классу! Вкусы в музыке дальше модной кадрили «Десять невест и ни одного жениха» да пародии на гусарский романс «Крамбамбули» не заходили. А господин Улыбышев страстно горел музыкой, сам прекрасно играл на скрипке, приглашал из Москвы знаменитых исполнителей. Дом его был открыт для любого причастного искусству — от графинь до уличного бродяги-певца. К нему ездили и многие литераторы, счел своим долгом зайти за месяц до его смерти даже ссыльный поэт, известный Тарас Шевченко, проездом из Оренбургской ссылки. Правда, уже был тогда прикован к постели Александр Дмитриевич, и свидание не состоялось… Но вы бы послушали, как хорошо говорил Александр Дмитриевич о музыкальном образовании народа… Да, да, господин Ульянов, — повернулся он к Илье Николаевичу, — вы совершенно тут правы, народ — исток музыки, но речь идет не о стихийности, не о песне устной — о той самой музыкальной грамоте, которая, как и словесная грамота, нуждается в школе, школе и школе.
Увидя внимательные лица вокруг, Александр Серафимович чуть кашлянул, чтобы согнать хрипотцу, и продолжал с увлечением:
— Когда я первый раз облачился в студенческий мундир — а вы знаете наш мундир с этакими чуть не гвардейскими обшлагами и стоячим воротничком с золотом, под самые щеки, — пошел представиться в новом своем виде Александру Дмитриевичу. Он меня мальчиком знал, когда я на флейте играл. Так вот, посмотрел на меня. «Из такой маленькой флейты, говорит, и вдруг такой большой фагот!» Меня после этого в Нижнем так и называли большим фаготом. И тут мы с ним хорошо поговорили. Он мне в подробностях рассказал, как проезжал чешскую землю и буквально из каждого деревенского окошка то флейту слышал, то скрипку, то фагот, а на какой-то станции четыре крестьянина угостили его таким гайдновским квартетом, что дай бог в Петербурге услышать. Это не народная песня. Это музыкальная культура народа. «Я гордился, что славянин, — говорил мне господин Улыбышев, — но я хотел бы учить наш великий, наш музыкальный народ, чтоб он с листа читал музыку, держал дома инструмент, находил, как чехи, в музыке выражение души своей…»
Гацисский весь раскраснелся, и его необыкновенно привлекательное овальное лицо с глубокими, большими глазами, его чуть вспотевшие на висках волнистые, длинные волосы показались Илье Николаевичу вдруг удивительно знакомыми.
— Погодите, погодите! — неожиданно воскликнул он, вглядываясь в него попристальней. — Да ведь, Александр Серафимович, я вас знаю. Вместе учились. Вы на юридическом… Вы в Казанском университете кончали?
Но Гацисский, хоть и учился одновременно с физиком, никак не мог припомнить его. Зато они сразу вместе, перебивая друг друга, разворошили множество общих воспоминаний.
С того дня Ульяновы ближе познакомились с соседями. Почти в каждой квартире нашлись музыканты. Наталья Александровна пела, учитель Шапошников играл на скрипке, а Виноградский мог играть решительно на всех инструментах, требуя себе на подготовку не больше как полчаса. Умел он и сам их изобретать из щипцов, гребешков, ликерных графинчиков и дразнил Марию Александровну, составляя шутовские ансамбли.
Так не хитро и не скучно повелось у них проводить вечера — с музыкой для одних, с картами для других, — то в одной, то в другой квартире. Заведено было и чтение вслух — читали романы из «Русского вестника» и зажигательную полемику между «Современником» и «Русским словом» со статьями Писарева и Зайцева. Общим любимцем был знаменитый Дудышкин из «Отечественных записок».
Илья Николаевич завел себе токарный станок и в короткие промежутки между занятиями выточил фигурки к любимой игре своей — шахматам. Часто под тихую женину музыку поигрывал он теперь в эти собственного изделия фигурки с забредшим на огонек сослуживцем.
Ему очень хотелось еще разок повидать их случайного знакомого, Александра Серафимовича Гацисского. Как и писатель Короленко несколько лет спустя, как и другой нижегородец, Максим Горький, увлекшийся Гацисским уже после его смерти, Илья Николаевич почувствовал сердечную тягу к Гацисскому. Но Александра Серафимовича в те дни поймать было почти невозможно. Садоков взвалил ему на плечи редактирование «Нижегородских губернских ведомостей». Один-одинешенек — впрочем, вдвоем с единственным наборщиком, — ухитрялся он сам и составлять, и набирать, и печатать газету, необычайно оживляя ее «Неофициальный отдел». Поднимал в нем новые вопросы, отовсюду выискивал свежую информацию, даже почин положил неслыханному в газетах новшеству: привлек десятки доброховцев-корреспондентов из Балахны, из окрестных деревень. Когда нижегородская гимназия вместе с дворянским институтом устроила заседание педагогического совета, чтоб сообща обсудить устав общеобразовательных учебных заведений, Гацисский показался на совете, сидел, слушал и заносил в книжечку. Поговаривали, что он пишет большую и смелую статью. Илья Николаевич очень ждал эту статью, но она не появилась. Ее запретила цензура.