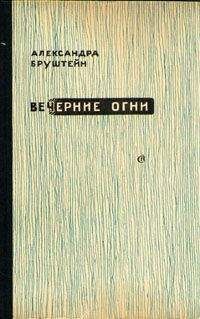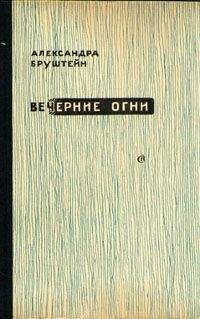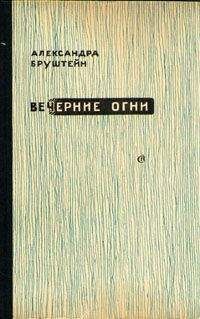В том же «старом Шлиссельбурге» заключенные одно время разводили кроликов. «Это, — пишет в своих воспоминаниях М.В. Новорусский (журнал «Былое», 1906 года, сентябрь), — создавало вокруг нас как бы иллюзию жизни в домоводстве… вносило даже своеобразный элемент нежности, обычно совершенно чуждый среде, где отсутствуют дети и вообще существа, вполне беспомощные». Характерно для отношения почти всех заключенных к этим кроликам, что их не уничтожали и не ели, — тех же немногих, кто это делал, считали чуть ли не людоедами!
Сам Михаил Васильевич Новорусский, проведший в «старом Шлиссельбурге» более 20 лет, пишет в своих воспоминаниях о том, как он пытался высидеть цыплят. С большим трудом добыв у стражи два куриных яйца, М.В. Новорусский привязал их полотенцем к телу и в течение инкубационного периода согревал их собственным теплом. Днем это было неудобно, ночью — мучительно: боязнь раздавить будущих цыплят не давала спать.
Труды и тревоги Михаила Васильевича пропали даром: яйца были не свежие, даже, как оказалось, тухлые. Никаких зародышей будущих цыплят в них не было. Но М.В. Новорусский не оставил своей затеи. Он попытался сконструировать нечто вроде самодельного инкубатора (одна из построенных им моделей, как он узнал позднее, в точности совпадала с инкубатором, изобретенным в XVIII веке знаменитым химиком Лавуазье, преподнесшим его в дар королеве Марии-Антуанетте для забавы!). Построив этот примитивный инкубатор, М.В. Новорусский добыл яиц, на этот раз свежих… «Едва ли, — писал он в тех же воспоминаниях, — кому-нибудь еще из куроводов всего света инкубация доставила столько бессонных ночей!» Приходилось чуть ли не ежечасно вставать, проверять нагрев и т. п.
Надзиратели относились к затее Новорусского с недоверием и насмешкой: делает, мол, яичницу и воображает, что у него что-то выйдет!
Когда на 21-й день вылупилось семь живых цыплят, тревог и забот стало у М.В. Новорусского еще гораздо больше. «Нужно было согревать и пасти цыплят и, значит, превратиться в наседку». Самым замечательным было то, что цыплята относились к М.В. Новорусскому как к своей мамаше-курице! Ведь он возился; с ними, кормил их, поил, — пушистые желтые комочки забирались к нему за пазуху, согреваясь около его тела! Цыплята всюду бегали за М.В. Новорусским, как за наседкой. Когда он, выходя, запирал их в своей камере, они поднимали отчаянный писк, а завидев его, спешили к нему со всех ног.
Сам М. В. объясняет необыкновенный успех, какой имели цыплята у всей Шлиссельбургской каторги, тем, что ведь до этого случая заключенные по 10, 15 и более лет не видали живой курицы или всамделишного петуха!
Не трудно понять, почему заключенные — уже в «новом Шлиссельбурге» — с такой горячностью и воодушевлением схватились за мысль разбить цветник на месте большого прогулочного двора. Ведь и цветов многие из них не видали уже много лет!
Не прошло и двух дней, как мечтой о цветниках и цветах заболели все, даже отчаянные скептики!
По поручению всей каторги выборные вступили в деловые переговоры с крепостным начальством. Протокола этих переговоров не сохранилось, да его, конечно, никто и не вел. Но мы все же можем установить сегодня — спустя полвека, — что именно «слушали» и что «постановили».
СЛУШАЛИ — предложения заключенных:
1) они превратят большой двор в благоустроенное место для прогулок;
2) очистят весь двор от вековых напластований грязи, мусора, кирпичей и камней;
3) вывезут все это за стены крепости и свалят на берегу Невы;
4) на тех же тачках привезут с берега землю, годную для цветочных клумб;
5) разобьют клумбы и вырастят на них цветы.
Все эти предложения начальство «слушало» и милостиво «постановило»: разрешить заключенным произвести эти работы, а также получить с воли семена и посадочный материал.
Работа закипела!
Стоял февраль 1912 года. Нарост мусора на прогулочном дворе смерзся, — разбивать его пешнями и ломами было тяжело. Но заключенных вознаграждала не часто и не всякому из них представлявшаяся в тюрьме возможность, вывозя мусор, хоть на короткое время выходить за стены крепости — чувствовать, как ветер обдувает лицо, видеть Неву, пароходы, идущие по ней к Ладоге и обратно.
От этих непривычных впечатлений — просторного неба, широких земных далей, всего того, что отсутствует в крепостных стенах, — размякали даже тюремщики! В воспоминаниях Н. Билибина есть замечательный рассказ о том, как однажды во время таких работ кто-то из надзирателей помоложе, расчувствовавшись, вспоминал, как ему привелось быть очевидцем казни Зинаиды Коноплянниковой (революционерки, убившей генерала Мина, зверски-жестокого усмирителя Московского восстания).
— Привезли ее, понимаете, сюда… Молодая, красивая, а уж одета как нарядно! Так жаль, так жаль… — повторял надзиратель, сокрушенно качая головой. — Ботиночки, понимаете, на ней шикарные!.. Так жаль…
Слушатели не сразу поняли, что «так жаль!» относится не к страшной казни Коноплянниковой, не к ее молодости, а к шикарным ботиночкам, которые то ли пропали, то ли достались кому-то, да вот — «так жаль!» — не рассказчику!
Через полтора месяца прогулочный двор стал неузнаваем! Его очистили, вымостили кирпичами большое овальное пространство для прогулок заключенных. Некоторые в шутку называли это великолепие — «парк», «Летний сад», даже «Невский проспект».
А самое главное — вокруг прогулочного овала раскинулись громадные клумбы будущего цветника. Пока очищали двор, мостили его кирпичом, возили землю, разбивали клумбы, в камерах были высеяны в ящиках семена, доставленные в крепость Мариной Львовной. Когда потеплело, рассаду высадили в грунт, на клумбы. Всходы, веселя глаз, начали крепнуть, набирать силу. Кое-где — поначалу еще робко — стали распускаться цветы. Но первый состав семян, привезенный тогда в Шлиссельбург, оказался поздним, — настоящего расцвета следовало ожидать лишь в июле.
В начале июля 1912 года уже хорошо взошел и зеленел высеянный заключенными японский газон. Почки бархатцев набухли туго, они должны были расцвести с часу на час. Бархатцам радовались особенно, — без этого незатейливого цветка в памяти заключенных не вставало никакое представление о домашнем палисаднике. Украинцы с нежностью смотрели на тугие почки «чернобривцев» — бархатцев…
Настроение у заключенных было отличное. Громадный подъем вызвала дошедшая и до Шлиссельбурга весть о Ленских событиях весной 1912 года. Возникали какие-то надежды, ожидания…
Окрыляла людей, радовала их также проделанная огромная работа. Это был поистине геркулесов подвиг! Да и что, в сущности, он сделал, этот Геркулес? Подумаешь, — очистил конюшни царя Авгия! Может быть, они были и очень запакощены, эти авгиевы конюшни, но ведь на их месте Геркулес ничего не построил, ничего не посадил. Есть о чем помнить столько тысячелетий!
Заключенные ждали расцвета своего сада. И радовались.
И как раз в это время в Шлиссельбуртской крепости случилась беда! Очередной произвол крепостного начальства напомнил заключенным о том, где они находятся, что их окружает. За какую-то провинность двое заключенных были подвергнуты телесному наказанию — высечены почти публично, в воротах крепости!
«Каторга» забурлила яростно, как никогда.
Не то чтобы в этом происшествии проявилось что-либо новое, никогда до этого не бывалое. Нет, телесные наказания в царских каторжных тюрьмах были делом вполне будничным, привычным. Порка была узаконена, было даже регламентировано назначаемое количество розог — «от» и «до». Особая инструкция предусматривала максимум — 90 розог на одного наказываемого. В обычной и привычной шкале наказаний за проступки розги были одним из пунктов, — худшим, чем лишение свиданий или книг, но лучшим, чем расстрел или виселица.
Но у лучшей части заключенных — у политических — существовало особое отношение к порке, не такое, как к другим видам наказания. Широко применявшийся в Шлиссельбургской каторжной тюрьме карцер, куда сажали и на две недели, и на месяц, и даже на два месяца, был, конечно, страшным, зверски-жестоким произволом. Но телесное наказание — сечение розгами — несло еще с собой в сильнейшей степени то, что на официальном языке называлось «осрамительным» моментом. Розги были худшим из всех надругательств над человеческим достоинством.
«Ничто не может сравниться с этим, — писал в одном письме Жадановский. — Что значат перед сечением расстрелы, побои и т. п. Все это чепуха. Порка же — это гнусность, ниже которой быть ничего не может. Даже когда убили товарища, близкого товарища, это не казалось мне таким ужасным, как порка. Для меня в этом отношении, конечно, нет и не было никаких сомнений. За себя я вполне спокоен в том смысле, что, если бы меня выпороли, я сейчас же покончил бы с собой!»
И дальше он пишет в том же письме: