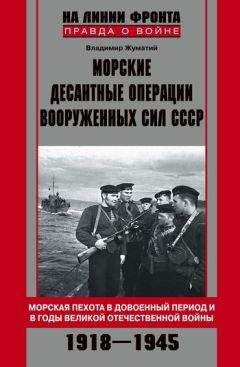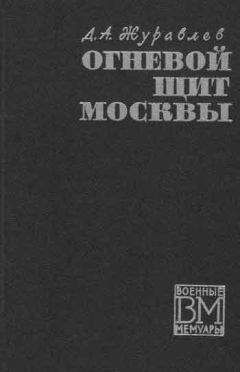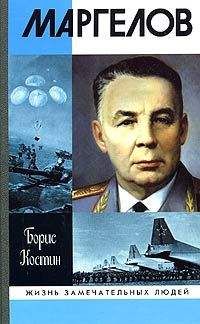Мама хватает его на руки. Бабушка трусит в сторону, приносит туесок с водой, которую взяли для питья. Несколько раз она набирает полный рот воды и взбрызгивает Даньку, потом его кладут на платок и долго качают, потом ему сгибают и разгибают руки, ноги, поворачивают голову. Даньку начинает рвать, вскоре после этого он открывает глаза и подает голос: «Уки-уки…»
Бабушка берет его на руки и уносит домой. А мама хватает меня одной рукой за вихор, а другой волтузит по чем попало. Все дружки мои разбегаются.
После расправы надо мной мама убегает следом за бабушкой. Я один, в разорванной матерью рубахе, в синяках и ссадинах по всему телу, с грязными слезными разводами на лице, волоку домой пустую карету.
В доме — скандал. Мама громко, слышно в улице, с визгом и плачем упрекает бабушку, что она плохо учит меня, расту я озорником и лентяем. Бабушка обороняется:
— Плохá моя наука — бери его к себе! Учи сама! Я не напрашивалась в няньки. Без того всю жизнь в няньках. Сами повесили его на мою шею. — Бабушка берет меня за плечо и толкает к матери. — На, бери, бери! Поглядим, кого ты вырастишь.
Мать отшатывается от меня, я — от нее, прилип к бабушке и хнычу:
— Никуда я не пойду.
— Спасибо надо говорить, что подняла тебе его. Ты ведь только на свет выпустила, это всякая может, это само собой делается, а я взрастила, на человека похожим сделала. Плох кажется Витька — тогда расти Даньку сама, — ворчала бабушка.
— Никуда не пойду, — продолжал я канючить.
Бабушке надоело это, и она прикрикнула:
— Перестань гнусить! Куда ты пойдешь, кому ты нужен? — махнула рукой на маму. — Она ведь только на язык бойкая, а водиться нет ее. Тебя подбросила мне тоже до году, прямо от титьки. Этого, так и быть, оставлю, а Даньку поднимай сама. Бери его, бери!
— Куда же? В комнатенке и без него не повернешься, совсем некуда поставить кровать. Держу его у себя под боком.
— А муж на что? Ему говори. Его ребята, и думать о них — его дело. Недовольна мной, плохá я — забирай!
Тем временем, пока мама и бабушка навязывали его одна другой, Данька совсем оправился и набивал за обе щеки манную кашу с сахарным песком.
Мне показалось обидно: каши слишком много одному карапузу, и почему всю одному Даньке, когда я тоже мамкин и бабушкин сын?! И я решил исправить несправедливость — заслонил кашу от бабушки с матерью и начал делить: ложку Даньке, другую себе. Делю и при каждой ложке приговариваю: «Кушай, Даня, кушай!» Голосок сделал сладкий-сладкий, слаще каши. И откуда взялась во мне этакая мерзкая хитрость?
Перепалка закончилась. Мама и бабушка начали сердито перебирать тряпье. Мать бросала свое в узел, а бабушка что-то искала. Найдя чистую рубашку, подала ее мне:
— Надень и умойся!
А потом мы с бабушкой пошли в поле. Немного погодя той же дорогой, но дальше, к станции, прошла моя мама. На руках у нее был Данька, за спиной большой узел. Она прошла невдали от нас, но не остановилась и ничего не сказала нам, прошла, как чужая.
Сильно удивленный этим, я уже открыл рот, чтобы крикнуть: «Мамка, ты куда?» Но бабушка сердито зашипела:
— Шш… молчи, молчи! Пусть идет. Эх, как гордо вышагивает! Пусть сама поводится с Данькой. Это на пользу ей, помягче станет А то завела обычай: я образованная, служу счетоводом, крашусь, завиваюсь, в кино хожу. Некогда мне заниматься ребятами, и руки об них не хочу пачкать, возьми их, бабушка, тебе нечего делать. Забыла, что бабушка своих четверню подняла, и одна, безо всякой помощи, вдовая. Не хочешь поднимать — тогда не рожай. А у меня и без вас жись — хоть в гроб ложись.
Я заинтересовался новой машиной. Это был трактор, таскавший за собой две жатки. Все вместе называлось уборочный агрегат — сцеп. Потом бабушка наладила меня в деревню домовничать: после ухода матери дом-то остался без сторожа, на одном Полкане. Там ждал меня Федька. Он видел, как уходила моя мать, и понял это вполне правильно — уносит помеху нашей дружбе.
Не поладила мама с бабушкой серьезно, и я надолго, на всю страду, получил полную волю-волюшку.
А после того, как убрали поля, бабушка снарядилась по-дорожному, вроде в Москву, — тепло, крепко, чисто, сказала: «Пойду проведаю Катюшку. Ты от дому далеко не убегай. Вечером взвернусь назад» — и ушла. Катюшкой она звала мою мать.
Я добросовестно стерег дом, ждал вкусный гостинчик. И верно, под вечер бабушка вернулась. На загорбке у нее сидел привязанный полотенцем Данька. Бабушка спустила его на пол, шлепнула не больно: «Слава богу, доехали. Гуляй теперь на своих!»
Неуверенно, криво Данька проковылял через всю избу, там дрёпнулся, но не закричал: «Уки, уки…» Знать, поумнел либо за дорогу бабушка так намяла его, что «уки» совсем разонравились.
По привычке с жадными глазами вертелся я около бабушки.
— Тебе чего? — наконец спросила она. — Гостинчик ждешь?
Я признался:
— Гостинчик.
— Этого мало? — И она кивнула на Даньку.
— Мне, водиться? — закричал я. — Не буду, не стану!
— А с тобой не водились? Ты думаешь, все сам сделал: и родился, и кормился, и подтирался? Со всеми одинаково приходится. А куда его, куда всех вас денешь? Обратно к мамкам в брюхо не засунешь. — Она пошарилась в кармане платья и дала нам с Данькой по конфетке «Мишка». — Без вас тоже нельзя: всему народу конец придет.
С Данькой началось то самое, что не совсем еще кончилось со мной, — куда бабушка, туда же на своих ходулях и Данька. Бабушка где подхватит его на руки, где завернет шлепком домой, где оставит на полдороге: поорет и затихнет. Да маленьким и полезно кричать, легкие будут крепче.
Я применял ту же, бабушкину систему воспитания: когда подхвачу, когда оставлю одного, когда нашлепаю. Чтобы я не подхватывал часто, не надсаждался, бабушка выкатила из чулана Данькину карету. Когда в улице начиналась шумная, развеселая игра в «кони», в свадьбу, в масленицу, я поступал умней прежнего: высаживал Даньку, и карета неслась пустая. А пассажир Данька что есть мочи гнался за ней, падал, вскакивал, ревел и снова гнался.
Где ему, годовалому, было тягаться с нами! Он одолевал только одну усадьбу, а мы уж слетали до конца деревни и летели в другой. Повстречав нас, Данька поворачивал в нашу сторону и опять догонял, падал, плакал. «Бегай, бегай, ноги крепче будут», — утешал я и Даньку и себя. Ну, и шлепки отпускал братцу чаще и хлеще, чем бабушка. В общем Данька не особо тяготил меня, вот что значат хоть и маленькие слабенькие, но свои ноги.
Моя память не знает удержу. Я хотел повспоминать об одном Федьке, а она поволокла за этим бабушку, Даньку, всю мою семейную хронику.
А пусть ее вспоминает, пусть наслаждается. Раньше, до армии, я был так занят своей текущей жизнью, жил с такой энергией, с таким увлечением, что мне и в голову не приходило вспоминать, ворошить прошлое.
И нужды в этом не было. Жил — будто катился с крутой горки. Катился быстро — дух захватывало. Впереди был целый мир.
А теперь я постоянно оборачиваюсь к прошлому, ныряю в него, снова переживаю житое когда-то наспех. Теперь все там окрасилось по-новому, все стало мне дорого, мило: и голод, и холод, и обиды, и слезы, и бабушкины шлепки. Каждая мелочинка, любая капля былой жизни сверкает, как те разноцветные камешки, которые во всякое половодье вымывает речка Воря из своих берегов. Мы с Федькой называли их ляльками и долгое время считали драгоценными.
А бабушку могу вспоминать без конца, я только сейчас, издали, разглядел ее как следует.
Мы с Федькой поступили в одну школу, в один класс, сели на одну парту и десять лет просидели рядом. В школе было немало интересного: спортивные состязания, вечера самодеятельности, а книги, чтение открыли нам новый мир. Но самым увлекательным, самым любимым осталось у нас с Федькой прежнее — туристничать, бродяжить, открывать, собирать.
Ничуть не стесняя меня во всяких хождениях, бабушка выхлопотала у директорши детдома такую же свободу и Федьке. Вскоре Чижи и ближайшие деревни стали тесны нам, мы начали путешествовать дальше, с кострами, с ночевками, и еще учениками начальной школы облазили кругом километров на двадцать.
Особенно повезло нам в десятилетней школе — молодой, еще комсомолец, учитель географии Андрей Петрович Павлов оказался неугомонным туристом. Ученики дали ему прозвище Пилигрим. Да что-нибудь другое, более подходящее к Андрею Петровичу, и не придумаешь. Он в точности таков, как описывают пилигримов: сухощавый, жилистый, обожженный всеми солнцами и ветрами нашей страны. Одет он всегда как в дальний путь: брезентовый плащ и затертый до блеска рюкзак, кожаные сапоги, побурелая в дорогах шляпа, в руках длинная палка-посох.
Даже в школу и в магазин рядом с квартирой он не выходил снаряженным иначе. Про него шутили, что он и спит, не снимая рюкзака. Каждые каникулы, по два-три раза в году, Андрей Петрович собирал группу учеников, человек двадцать — тридцать, добивался льготных путевок, помощи от шефов и потом ехал с группой в Ленинград, Крым, по Волге, на Урал, Кавказ, Алтай. Для тренировки перед дальними поездками Павлов водил ребят пешком в Загорск, Москву, Переяславль, Звенигород…