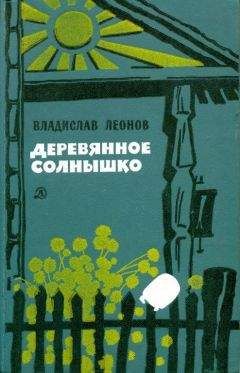...Перебивая друг друга, народ спорил, куда же определить Женьку.
— Слушай, давай к нам, а? — теребил его Павлуня. — Будем вместе морковку выращивать! У нас звено!
— Да ну вас с вашей морковкой, с вашим звеном и со всем вашим совхозом! — махнул рукой Женька и полез на сеновал.
— Зачем же ты так? — сокрушенно сказала ему вслед Лешачиха. — Разве тебя т а м ничему не научили? — Она произнесла теперь с особым выражением суровое и дальнее слово «там».
За столом наступила тишина. Женька слушал, как за рекой, на испытательном стенде, горячо и убедительно гудит мощный дизель. «Может, в завод податься? — сонно подумал он и натянул одеяло на голову. — Ну его к бесу, этот завод! Ну ее к бесу, работу! Отдохнуть надо!»
— Павлуня, домой! — услыхал он теткин голос. «У, злодейка!» — ему захотелось разозлиться на тетку, но злость не получалась.
— Домой, Пашка! Хуже будет! Домой!
Женька сладко поежился, засыпая: «Дома...»
Когда Бабкин и Лешачиха остались одни перед остывшим самоваром, звеньевой поднял на хозяйку глаза, чтобы сразу и окончательно решить вопрос, когда ему убираться в общежитие. Мудрая Лешачиха разгадала Мишину муку.
— Никогда, понял?
— Но ведь он вернулся, — кивнул Бабкин на сеновал.
Долгим взглядом посмотрела на него Настасья Петровна:
— Один сын прибавит морщин, двое сыновей — больше слез у матерей... Ложись и спи спокойно.
Утром, как Женька ни брыкался, мать растолкала его, умыла и повела к директору. Всю дорогу он недовольно ворчал:
— Ну чего, чего идешь за мной! Я пути не знаю, да? Я что, ребеночек?
— Опора ты моя стальная, — потянулась мать поправить узластый галстук на его тонкой шее.
— Отлипни! — приказал Женька, кособоко ныряя в тенистую аллею. Он торопился, вострый, узкоплечий, а ей сквозь туман чудилась в нем королевская походка да богатырская стать. Женька подскочил к двери, с трудом оттянул обеими руками тугую пружину, прошмыгнул.
Лешачиха почувствовала, что сильно устала. Но возле конторы скамеек не было: Ефим Борисович приказал их не ставить, дабы народ не рассиживался в горячее рабочее время. Лешачиха сломленно опустилась на траву и засмолила успокоительную ядреную папиросину.
Женька шел по конторе. Там стыла тишина. Ефим Борисович не любил, когда агрономы да зоотехники сидели по кабинетам. Люди на рабочих местах — кто в поле, кто на ферме, кто на пастбище. Бухгалтерия — на прополке капусты, даже личная секретарша — на свекле. Только у рации дежурит диспетчер, да сам директор, забежав на минутку, подписывает какую-то срочную бумагу.
Перед кабинетом Ефима Борисовича Женька быстро привел себя в порядок, а когда вошел, директор с любопытством уставился на него: мальчишка стоял разлохмаченный, словно ранний кочан, до пупка распахнуты и куртка, и рубаха, печально торчала из петли галстука сиротская шея. «Ну?! — как бы спрашивал весь его вид. — Мораль мне читать? Валяйте!»
— Сядь! — сказал Ефим Борисович. — И застегнись — не на пляже.
Женька стоял, а директор ждал в кресле, постукивая карандашом по столу. Наконец мальчишка сел — колючий и прямой, как гвоздь, на самый краешек стула. Скосил глаза на директора: у-у, как растолстел! Щеки налитые. И лысый совсем, как яйцо. И три волосинки ишь как закрутил!
— Ты чего смеешься? — нахмурился директор.
Женька сразу обиделся:
— А что, уж и смеяться нельзя? Ладно, можем и заткнуться!
— Послушай, чего ты хочешь? — спросил его директор. — Я тебя звал? Зачем ты ко мне пришел?
Женька подумал, почесал затылок и сказал нерешительно:
— Насчет работы я...
— Ну вот это другой разговор! Значит, ты хочешь у нас работать? А куда желаешь?
Женька дернул плечом.
— В звено к Бабкину пойдешь?
Женька опять дрыгнул узким плечом:
— Все равно!
Ему и впрямь было все одно: что землю пахать, что сапоги тачать. Ни то, ни другое, ни какое третье дело не выбрало пока легкое Женькино сердце. И директор понял это.
— Ладно, — сказал он. — Иди в отдел кадров.
Женька вскочил и пошел, едва не посвистывая от собственной молодости да беззаботности. Директор грустно смотрел ему вслед.
В коридоре Женька получше застегнулся и пригладил вихры. Возле конторы Лешачиха метнулась навстречу:
— Ну, как?!
Женька тронул галстук, кашлянул.
— Нормально, — сказал он усталым голосом. — Чо он без меня сделает? Людей-то у Ефима не густо! Каждый на вес золота!
— Золото ты мое, — вздохнула Лешачиха.
Женька выпятил нижнюю губу.
— Пойду, пожалуй, — небрежно проговорил он. — Погляжу на это звено.
Бабкин приветливо встретил его в поле. Женька со знанием дела осмотрелся. Щит с обязательствами несколько облупился, буквы на нем выгорели, зато морковь славно зеленела и кудрявилась. Женька сразу выдернул десяток желтых хвостиков, обтрепал землю о штаны, захрупал мелко, как кролик.
— Сладенькая! — удивился он. Женька с детства любил сладкое. В школе, на улице постоянно грыз карамельки, поэтому, наверно, и не вырос.
— Через недельку будем дергать на пучок, — сказал Бабкин.
— А чего ждать-то! — размахнулся Женька. — Давай сейчас и начнем. Раз-два — и готово! Или завтра, а?
— Нет, — разумно проговорил Бабкин. — Завтра нельзя. Завтра мы все на хлеб.
Женька нахмурился.
— Не хочу на хлеб! Я сюда нанимался, к тебе! Тут у тебя и речка, и девки загорают! Зачем мне твой хлеб!
Молчаливо смотрел на него Бабкин. Подошли климовские бабушки и тоже уставились голубенькими, как лен, глазками. Сердито шевеля губами, собирался что-то сказать Павлуня. И тогда Женька, опережая всех, обидчиво зашумел:
— Я на морковку оформился! А вы меня на зерно, да? Плевать я хотел на ваше зерно!
— Ну чего расшумелся? — примирительно сказал Бабкин и отвернулся от Женьки. — Не хочешь — не надо. Мы тебя не зовем. А нам некогда: хлеб, он не ждет.
Хлеб не ждал. Он вымахал уже по грудь директору, и Ефим Борисович, ныряя в колосьях, растирал их на ладони, озабоченно брал на зуб. В тревоге агрономы: не прозевать бы. Похудевший Боря Байбара заранее приклеивает на персональном комбайне широкий плакат собственного сочинения: «Убирая зерно золотое, ни минуты, товарищ, простоя!»
Машины хвалятся высокими намытыми кузовами. В баках по самую горловину налито горючее. Молодой и сноровистый районный газетчик разгонисто строчит в блокноте: «Заутра бой!»
В такие дни людям некогда болеть, и в коридоре совхозной больницы с утра ни шепота, ни кашля. В палате все семь коек аккуратно заправлены.
Совсем не время отлеживаться и Бабкину. Он решил впрок запастись какой-нибудь мазью для своей больной ноги, которую в неуемной работе здорово растер и намял. Бабкин смело проковылял мимо пальм в коридоре, а возле знакомой двери затомился и заскучал. За матовым стеклом жила тишина. Бабкин вытер пот и постучался.
— Да! — откликнулся милый голос.
Бабкин открыл дверь. Запахло гуталином. На табуретке, спиной к нему, сидел больной. Начищенные туфли его блестели. Чижик, не обращая внимания на больного, собирала в чемоданчик бинты и вату — она тоже готовилась к уборочной.
— Ну чего ты от меня бегаешь? — качнулся больной.
Бабкин по голосу, а больше по волосу узнал механика и закаменел лицом и телом.
Обернувшись на стук двери, механик радостно вскочил.
— Это ты! — закричал он, хватая Бабкина за руку. — Вот здорово! Вот кстати! Помоги! Я, честно говоря, не знаю, Бабкин, чем ее прогневил! Я же перед ней чист, как стеклышко, — пылинку видно!
Он встал перед окном, укоризненно посмотрел на девушку.
— А ты «уходи»...
— Уходи, — тихо сказала она. — Совсем уходи.
Механик посмотрел ей в глаза и, пожав плечами, направился к двери. Тихо жаловались его туфли. Берясь за дверную ручку, он сердито спросил:
— Но почему?!
— Ох, мама... — досадливо поморщилась она, и механик выскочил в коридор. Долго за дверью стояла тишь, потом еще дольше слышался затихающий кожаный скрип, потом хлопнуло.
— Вот и все, — вздохнула девушка, отряхивая ладони. — И вся любовь!
В ее глазах застыло недоумение. Бабкин шевельнулся.
— Это я? — неуверенно спросил он. — Я виноват?
— Ты? — Чижик покачала головой. — При чем тут ты? Ты зачем, собственно, явился? — Брови ее сдвинулись. — Больничный тебе продлить, что ли? Давай устрою, по знакомству!
Она брезгливо усмехнулась. Бабкина скривило.
— Эх, ты! — задохнулся он и стал шарить по карманам. Посыпались на пол гайки, наконец Бабкин нашарил смятый, заляпанный синенький листочек. — Вот твой больничный! — И разодрал его в клочки. — Ты мне нужна, а не твой больничный, балда!
Бабкин выкрикнул все это одним духом и так хлопнул за собой дверью, что с минуту звенела в шкафу какая-то пугливая медицинская склянка.
Бабкин едва доковылял до Лешачихиного дома. Он не чувствовал ни тепла, ни холода, даже боль в ноге доходила до сознания тупо и приглушенно. Открывая калитку, он хотел одного: чтобы во дворе было пусто.