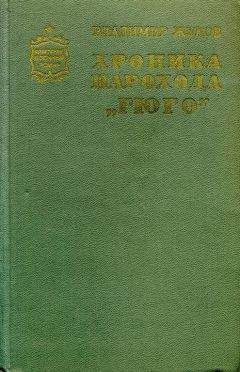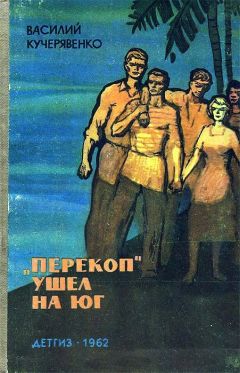Вот и фок-мачта, теперь спрыгнуть, удержаться. В люк, ниже, в темноту. «Где-то бурлит вода. И палуба на баке разворочена. Как холодно! Кто это? Он, опять старпом. И еще двое. Да, да, сейчас!»
Тяжелую тушу брезента еле вытолкнули наверх. Тянули тросы, торопливо разматывали. С треском по борту развернулись штормтрапы. Аля перекинула ногу через планширь, но ее столкнули, почти скинули обратно на палубу — полезли другие. Она не обиделась, пусть. Потащила трос, обводя через форштевень, на барабан брашпиля.
Пар шипел, точно сердился, что его выпускали в худые, расшатанные взрывом цилиндры. Трос дернулся, заскользил, прижимая пластырь к пробоине. Старпом кричал в телефонную трубку: «Машина! Машина! Включай донку! Качай, говорю, вашу мать!»
Люди, оставшиеся без работы, сгрудились у борта. Молча смотрели, как подрагивает напрягшаяся парусина: сдержит ли воду эта ненадежная защита, хватит ли ее силы, чтобы идти пароходу дальше?
Дым на спардеке постепенно рассеивался. Рисунком сумасшедшего проступало исковерканное крыло мостика, сгоревшая почти начисто рулевая рубка, голо, как на деревенском пожарище, торчащая труба. И все это с перекосом, с наклоненными мачтами, не выходившими при качке в свою обычную гордую вертикаль.
Человек, стоявший рядом с Алей, взмахнул рукой и рухнул на палубу с глухим, безнадежным вздохом.
— Алексей! — Она вскрикнула, первая наклонилась к нему. — Леша!
Машиниста подняли на руки, понесли. Он был мокрый, порванный борт куртки обнажал тельник, запятнанный кровью. На секунду открыл глаза, посмотрел вбок, на пляшущий маятником горизонт, не видя, безразлично.
— Бомба это его, сука, — сказал матрос, тот, что поддерживал голову Алексея и плечи. — Он ведь на баке находился, когда мы прибежали, раньше туда пошел — шланги готовить. Бомба его, сука.
— Точно, — сказал другой. — Когда по надстройке шарахнуло, там тоже надо было ждать. Эй, осторожней, легче, говорю!
— Кровища-то, вишь, по штанине текла, — сказал первый матрос, когда начали продвигаться по доскам, груженным на передней палубе. — И в воду лазил, за борт. Мне-то ничего, я целый...
Аля слушала, старалась шагать в ногу, смотрела на бледное, искаженное болью лицо Алексея. И совсем по-женски, понимая, что по-женски, и не боясь этого, впервые за два трудных часа спросила соседа:
— А бомбежка кончилась?
В ответ раздалось глухо, зло:
— Узнаешь. Иди себе.
Алексея внесли в каюту доктора, растолкав перевязанных и ждущих перевязки, уложили на койку.
Доктор, волоча бинт, присел на корточки, начал считать пульс. Разом наступившее молчание нарушил его приказ: всем идти в красный уголок. Помощь раненым, обожженным, ушибленным он будет оказывать там. И добавил: «Через некоторое время».
— Товарищи! — Капитан, поглаживая густую бровь левой рукой (правая у него была забинтована, на привязи), оглядел команду, собравшуюся в столовой, и еще раз громко повторил: — Товарищи! Я думаю, не надо объяснять, зачем я приказал прийти сюда всем, кроме вахтенных. Не буду говорить и о том, что у нас нет возможности толковать долго, — всем надо быть на местах, исходя из создавшегося положения, А вот положение это нам надо всем хорошо представлять... Трудное, не скрою, положение. Трое убитых, девять раненых. Хода нет, судно дрейфует. Пробоина опять же. Думаю, нас бы не винили, если бы мы покинули пароход. — Капитан умолк и обвел взглядом липа слушавших его людей. Потом не сказал, крикнул: — Но мы выполним свою задачу до конца! Так?
— Так, — подтвердил кто-то, один за всех.
— Ну вот. Я это и хотел услышать. — Он снова заговорил спокойно, словно уже все было по-другому вокруг, словно и раненым теперь будет легче, раз принято окончательное и бесповоротное решение, и самолетам незачем больше прилетать — все произойдет так, как говорит он, капитан. Дал распоряжение, чтобы наготове оставались шлюпки, и как с машиной — вся надежда теперь на механиков. И еще указание: на место сгоревшей рубки натаскать тряпья, пакли, дымовых шашек. Прилетят снова — устроить представление: горим, мол, скоро потонем, отстаньте.
Это досталось Але — устраивать ложную пожарную кутерьму.
Казалось, из легких никогда уж не выдохнуть сухую горечь, не отмыться от копоти, не отделаться от запаха гари. Единственная радость: не видно, что вокруг творится, где бухает. Трижды подымали дымище, раз вечером и дважды на рассвете, холодном, мрачном, как бы последнем.
Потом Аля прибежала на корму, где у запасного штурвала стояли теперь рулевой, вахтенный штурман и капитан, — жаловаться, что осталась одна всего дымовая шашка. Прямо с ней, с этой шашкой, явилась. А капитан взял коптилку и швырнул за корму. Далеко швырнул — сильный, хоть и раненый!
— Смотри, — сказал. — Вон туда смотри.
Справа, в ветреное пространство, серебряно освещенное солнцем, непривычно впечаталась черная полоска. Тоненькая, чудилось, вот-вот порвется. Аля поняла сразу: берег, напрягла зрение, и все никак не получалось, чтобы виделось четко, ясно.
— Ну вот, — сказал капитан. — Чего ж ты теперь-то плачешь? Дошли ведь, черт нас возьми, дошли! — Он обнял ее одной рукой, здоровой, и она уткнулась ему в плечо. — Ну, ну, — тихо твердил капитан, и не то чтобы порицал или успокаивал, твердил так, будто и ему хотелось ткнуться кому-нибудь в плечо. — Ну, ну, ступай в душ, Золушка. А то ведь к Англии подходим. Заграница как-никак.
Полоска на горизонте приближалась. Широкий залив сачком втягивал обгорелый, завалившийся на борт «Турлес», заботливо огораживал плоскими берегами, а потом надвинулся причалами, черными бортами судов, кранами, закопченными стенами фабрик. Это была Шотландия. Где-то дальше, на холмах, раскинулся вальтерскоттовский Эдинбург.
Месяц простояли в ремонте. Много ли это, мало, чтобы забыть, какое оно, море, когда тянется кругом, насколько хватает взгляда? И вот уже остался позади Лох-Ю, порт, куда заходили поджидать, пока соберется караван английских, канадских, американских транспортов, чтобы сообща под охраной двигаться через кишащий субмаринами океан. И не в Архангельск — на запад.
Днем с мостика возникает странная, но захватывающая картина: не очень ровными, а все же колоннами идет целая эскадра, семьдесят два судна. И довольно близко друг к другу, спокойно с виду, величаво. Только вскоре стало известно, что уже не семьдесят два парохода в колоннах, а на четыре меньше. Отстали, потерялись, а потом безответный «SOS» — эсминцев охранения на всех не хватит. Вот и пялят глаза кочегары на манометры, вот и лелеют каждый подшипник машинисты, вот и строги по-особому механики на главных постах. Обороты, даешь обороты, как велено, чтобы удержаться в колонне!
— Устала?
Это капитан. Остановился рядом с Алей, посмотрел из-за плеча на бледный кружок компаса — как там на румбе? А сам вот-вот повалится с ног.
— Вы бы отдохнули, Степан Тихонович.
— Спасибо, милая, что заботишься. Только нельзя мне. Вот станешь сама капитаном — поймешь.
Она? Капитаном? Аля зажмурилась на секунду. А что? Капитаном. Первый курс института — это почти половина мореходки, той, что дает обычно штурманам диплом дальнего плавания. Можно доучиться. Но не в этом, в сущности, дело. На месте она, на своем, прочном — вот что главное. «Ради Бориса начала, нет ли, — сказала себе, — неважно теперь. Мое, собственное».
А впереди были еще долгие мили до берега и такие же ночи, непроглядные вдвойне — по глухому мраку и неясной судьбе.
В Нью-Йорке, когда направились кучкой в тесные, затопленные автомобилями улицы, Славик, кочегар, придержал Алю за локоть.
— Ну как, отошла? Нам, знаешь, в машине что, — ни фига не видно, вот и не думаешь. Вам наверху трудней. Да ты молодцом, все говорят, молодцом!
Он хотел идти дальше, держа ее под руку, но Аля вывернулась, сердито повела плечом. Не понравилось, как смотрел Владислав: говорил вроде про одно, а думал про другое — как бы покороче отношения наладить. Сухо ответила:
— Чего там — молодцом... Как и все.
По карте выходило просто: вот Архангельск, исходный пункт; потом Атлантика, Панамский канал. Аля повела пальцем на север — вот Портланд, штат Орегон, США; ну, а теперь влево — куда? — через Алеутские острова, мимо Командоров, теперь на юг... справа Камчатка, слева Курилы, Охотским морем и дальше — пролив Лаперуза; так, так и вот сюда, — СССР, Вла-ди-восток. Еще десять тысяч километров, и кругосветка бы получилась!
«Вернусь в Ленинград, — подумала она, — и будет у меня кругосветка. А пока, выходит, — дальневосточница...»
Аля понимала: «Турлес» нужен на новом месте, иначе бы не стали гнать его в такую даль, и она здесь нужна. Но все равно было трудно, когда вспоминала свой город, блокадный теперь, когда читала в газетах про Сталинград. Казалось, мало, ох как мало возит грузов ее пароход. Только как сделаешь больше?