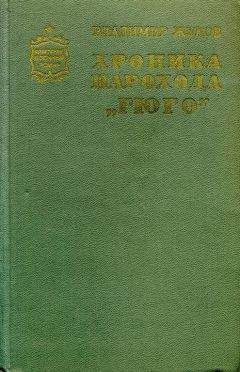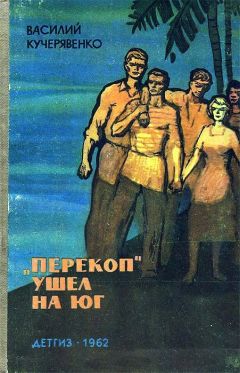И в каютах разговоры — о том же. Может, слова другие, у ребят на словах все иначе выходит, чем у нее.
— ...А ты, кореш, станешь дома рассказывать, какая дорожка тебе в жизни привалила, океанская, — и не поверят. Магеллан! Молчи уж. Знай и молчи. Как памятник самому себе.
— Х-ха, памятник! Это точно. Памятник несбывшимся надеждам.
— Почему — несбывшимся? Сбывшимся. Мне семь лет еле-еле исполнилось, когда из дома смылся. В моряки. Через час на вокзале поймали. Валенки у меня с собой были и пугач — на металлолом выменял. Дед у нас по дворам ходил, за бутылку петушка сладкого давал на палочке, а за три крана медных, водопроводных — пугач. У нас в доме ни одного крана не осталось, все к черту посворачивали, деду этому. Зато бахали — пугачи-то. Ого-го!
— То-то тебя к пушке определили, пугач. Вон по какой линии мечты, оказывается, сбывшиеся.
— Нет уж, дудки, моряк я, а не артиллерист. Настрелялся за кругосветку. На штурмана буду учиться.
— Давай, давай, пойду к тебе под начало, когда старпомом станешь. Ты меня по блату от вахт ночных освободишь. Спа-а-ать буду, как люди нормальные на бережку, по пятьсот минут без перерыва!
— А слышали, братцы, капитана-то нашего к ордену представили. Что довел «Турушку» до родного и близкого Дальнего Востока. Ой, что-то нравится мне здесь! Страсть. Боюсь, на всю жизнь останусь. Прощай, Пенза, родная, где меня на вокзале из бегов перехватили да не удержали. Рыбу подамся на Камчатку ловить.
— Крабов, крабов давай. Экспортный продукт.
— Можно и крабов... А гитарку, гитарку-то зачем уносите? Эй, слышь-ка, не надо! Споем сейчас, душу повеселим. Помнишь Алексея? Знатный машинист был.
Спит деревушка... где-то старушка
Ждет не дождется сынка-а...
Сердцу не спится, старые спицы
Тихо дрожат в руках.
— Э-эх! Кому что.
— А сводку знаете? Тяжелые бои в Сталинграде. Надо же, до самой Волги доперли.
— Обломится! Дай-ка я прикурю... Вспомни, как пластырь в Баренцевом море заводили. Дырища в борту какая! А ничего, живем...
— Вот именно. Ты слушай да дело свое молчком твори, Магеллан. Памятник несбывшимся надеждам.
Ветер уныло гудит в трубе,
Тихо мурлычет кот в избе.
Спи, успокойся, шалью накройся,
Сын твой вернется к тебе...
— Наверное, в полярку пойдем, а, братцы? Северным путем? Тут, в порту, сказывали, в полярку пароходы уходят, в Архангельск.
— Видал, по мамке соскучился, домой захотел!
— Трески ему, трески на обед. У них, у поморов: «Трешшочки не поешь — не поработаш».
— В Архангельск! А чего повезешь туда? В Америку еще надо сбегать, чтобы в Архангельск идти.
— А мне в здешних краях нравится! Ох, боюсь, останусь я во Владивостоке. Золотой Рог, представляешь, бухта называется, потом — Улисс, Диомид. Во названия! Для романтических людей земля эта предназначена.
— Да уж не чета твоей Пензе.
— Ладно, ладно, ты Пензу не трогай! У нее своя гордость.
— Кончай спор, морские волки, гитару давай, что ж замолчал! Одесскую свою, слышь, Одессу давай вспомним, чтобы недолго ей в оккупации оставаться:
На свете есть такой народ,
Что даром слез не льет.
Всегда играет и поет
Счастливый тот народ.
Кого вы ни спросите,
Ответят: «Одесситы!»
Одесса-мама, чудный город м-о-й...
— Ну, разом!
Ой, Одесса, жемчужина у моря,
Ой, Одесса, ты терпишь много горя,
Ой, Одесса, чудесный, милый край,
Цвети, Одесса, рас-цве-тай!
Отплавали туманное лето, злую ветреную осень, одолели зиму, морозную, загнавшую ртуть в термометрах на самый низ. И все это время Алю ждали, подстерегали, ощупывали глаза Владислава. А то вдруг загородят коридор его широкие плечи, не пройдешь. Просила — не слушает, пробовала не замечать — не помогает.
Потому и не удивилась, когда вошла однажды к себе в каюту и увидела кочегара: сидит на скамейке.
— Полчаса жду, — миролюбиво сказал Владислав. — Находился в стороне от тебя, время пришло, чтобы рядом. Ты, я думаю, сама поняла — некуда тебе деваться.
— От тебя?
— Ну да. Никого к себе не подпускаешь. Думал, может, жених есть. Письма твои смотрел. По конвертам — все мать пишет. Одна ты... А девушке как одной? Природа должна взять свое.
— Так это природа. При чем же ты?
— А я и есть природа...
— Слушай, — перебила Аля, — а если я сейчас кого-нибудь позову? Как думаешь, что будет?
— Ничего не будет. Хоть самого капитана зови. Скажу, что иголку с ниткой зашел попросить. Факт.
— А что гадости говоришь, не чувствуешь?
— Природа... — ухмыльнулся Владислав.
Как Аля не успела отскочить? Тяжелая рука коснулась ее щеки, скользнула по волосам, другая вцепилась в плечо.
— П-пусти! — Она оттолкнула его, больно ударилась о койку.
Коридор. Трап. Еще один. Запыхавшись, постучала к капитану.
— Степан Тихонович... — Аля хотела сказать про Владислава, но вышло другое: — Степан Тихонович, я слышала, как придем в порт, в Америку, так кое-кого из команды будут переводить на другие суда. Прошу включить меня. Непременно.
— Тебя? Может, что случилось?
— Нет. — Аля легонько куснула губу. — Я просто так, чтоб вы потом не забыли. Я очень прошу.
На секунду промелькнуло: а как же «Турлес», как же без него? Но только на секунду, тотчас вернулось прежнее: «С н и м вместе на одном пароходе больше не могу».
А капитан неожиданно согласился:
— Что ж, видно, пора тебе. Поплавай на другом судне. Жалко, конечно, привык я к тебе. Но ты поплавай, тебе опыта морского набираться нужно. Обещаю перевести.
Вот и получилось: прости-прощай, «Турлес», кругосветная каравелла. Разбомбленная, обгорелая, обстрелянная, обсмотренная в цейсовские перископы. В Сан-Франциско Аля перешла на новенький «Виктор Гюго». Одна. Остальным списанным с «Турлеса» достался другой «Либерти».
Команда еще вполовине, что могли насобирать с других судов. Остальных, говорят, дадут во Владивостоке. Ребята ничего, приветливые. И штурманы, механики ничего, внушают доверие. Капитан — тот сразу и откровенно понравился — большой, спокойный, уверенный в себе. Да, уверенный, это у него на лице написано. Может, передастся чуток его уверенности? Аля об этом думала, когда беседовала с ним, — он каждого, кто приходил на пароход, приглашал к себе в каюту, выспрашивал, откуда да что.
Аля, правда, не очень распространялась, рассказ ее больше походил на заполнение анкеты, но капитан, Полетаев этот, Яков Александрович,, не досаждал особенно вопросами. Ему, видно, что-то еще было нужно, кроме биографии. Вдруг спросил: «А как вам Нью-Йорк показался?» Она ответила: «Ничего, большой». «Так что мир уже повидали?» — спросил Полетаев. Она сказала: «Ага, повидала. Не такой уж он большой, мир-то, оказывается». И засмеялась. Полетаев тоже засмеялся. Нет, он ничего, новый капитан.
А старпом другой, совсем другой. Посмотрел молча и отвернулся. И так вот, не глядя, сообщил, что жить она будет в отдельной каюте — есть на ботдеке каюта. «Хоспитал» выведено по-английски над дверью, на металлической планке (тут, на «Гюго», все надписи по-английски).
Так вот она — пустая каюта с двумя койками, одна над другой, и здесь Але жить. Немного неловко перед ребятами, матрос ведь она, ей положено обитать внизу, вместе с командой. Но раз старпом велит, пусть так и будет. Они хозяева на пароходах, старпомы.
С утра встала на работу. Боцман Стрельчук и знакомиться толком не стал: бери скребок, сурик, лезь на подвеску, раз назначена. На подвеску так на подвеску, не привыкать к матросской работе. Чудно только — суричить борт нового парохода. Впрочем, может, и надо. Месяц «Либерти» этому, американскому, а уж сквозь серый его с голубым наряд проступила рыжая ржавчинка.
Аля мерно взмахивала кистью, стоя лицом к гладкому, в ровных швах борту, и вдруг услышала с причала крик:
— Братцы, а ведь у нас баба появилась!
Чистый асфальт, во всю стотридцатиметровую длину парохода пустота. И посередине фигура — шляпа серая, макинтош серый и галстук желто-зеленым попугайчиком. Худой этот человек, тощий прямо, да как зычно у него вышло: «Баба!» — с радостью или изумлением, но все равно. «Баба появилась» — это от чего с «Турлеса» ушла. На Владислава похоже. Неужто и тут такой есть? Теперь-то куда бежать?
Потому и смелость, наверное, появилась, что решила: некуда: Гордо стояла на узкой доске, держась за трос, словно циркачка. И ответила громко, как он:
— Чего орешь? За границей все-таки!
Матросы на соседних подвесках одобрительно засмеялись, а тот, с желто-зеленым галстуком, молча ступил на трап и исчез.
Вот и легко стало. Вот и домом Аля зовет уже не «Турлес», а «Гюго». И ребята здесь тоже ничего, даже тот, что орал с причала, — старший рулевой Федя Жогов, Разве что старпом Реут. С ним как-то пошло по-особенному, волю хочет свою показать в отдельности ей, Алевтине Алферовой. Ну да ничего!