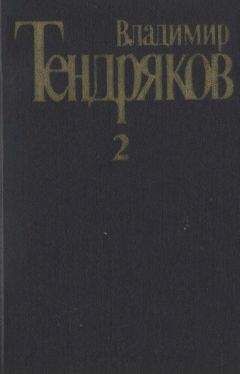— Лошадей я уже запряг, — произнес Саша неожиданным для Павла баском.
Он, верно, не в силах был просто спокойно идти рядом: нагнулся, схватил горсть снегу, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колесную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал… Чувствовалось, что для его тела самое тяжелое наказание — перестать двигаться.
— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.
Саша лишь смущенно отвернулся, походя потряс рукой кол изгороди — крепко ли держится. Зато расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.
— А чего ж, мужаем… — ответил он за Сашу не без самодовольства.
3
На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; все это соединено с остальным миром извилистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с миром, — убогая проселочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.
Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и тракторы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоединить.
Починок Кудрявино лежит как раз посередине между колхозами «Труженик» и «Светлый путь». От обоих он далек. В тот год, когда началось укрупнение, Кудрявино присоединили к «Светлому пути», колхозу крепкому, со старым опытным председателем Федосием Мургиным.
Кудрявинцы были бесшабашный парод: весной не особенно торопились с севом, осенью — с уборкой, просили у государства кредиты, расходовали и не думали выплачивать. Оказавшись под крылышком Федосия Мургина, начали надоедать ему: «Федосий Савельич, хлебец вышел… Федосий Савельич, нельзя ли авансик…», за что степенный и рассудительный Федосий Мургин возненавидел их тайной и лютой ненавистью и эту отброшенную в леса бригаду называл не иначе, как «автономная республика Кудрявино», тем самым намекая районному начальству, что он не имеет сил подчинить кудрявинцев своей воле.
В деревнях Погребное, Сутолоково, Ивашкин Бор — оплот и ядро разросшегося ныне колхоза «Светлый путь» — не было обиднее клички, чем «кудрявый». «Кудрявый ты, брат, не иначе…» Тот, кому бросали такие слова, знал, что они отнюдь не похвала наружности, а просто его считают и бессовестным попрошайкой, и последним на свете бездельником, и вообще ни к чему не пригодным человеком.
Павел Мансуров предложил передать Кудрявино колхозу «Труженик».
— Федосий стар и живет по старинке, ему теперь дай бог управиться со своим колхозом без этого довеска. Ты ж вон как разворачиваешься. Хватит сил, вытянешь кудрявинцев, — говорил он Игнату.
От деревни Новое Раменье до починка через поскотины считалось километров пятнадцать. Но кто мерил эти километры лесных дорог?
Лошадь уже два часа старательно тащила розвальни по лесу. Полозья то скользили по грязи, то скрежетали по жесткому снегу, то погружались в мутные лужи. Спасение, что санный полоз — не колесо: всюду пройдет, нигде не застрянет…
Дорога становилась все уже и уже, лес — выше, гуще, глуше. В одном месте обогнули бурелом — толстые стволы сосен лежали крест-накрест друг на друге, вскинув черные от сырости корневища. Ничто в лесу не может вызвать с такой силой впечатление дикости, как бурелом — хаос, хранящий на себе следы неистовой силы. После него казалось странным, что они едут по проложенной людьми дороге. Невольно ждешь — вот-вот оборвется она, лошадь потащит розвальни через пни, кочки, трухлявые стволы упавших деревьев, по бездорожью и… кончится путь.
Но вот среди плотного леса показался голубой просвет, скрылся, показался другой, более широкий… Розвальни выехали на колею, заполненную вязкой грязью, кое-где, как щитом, покрытую толстой коркой унавоженного льда. Дорога пересекала поле озими. За полем — обычные деревенские крыши с выкинутой к небу неизменной березкой. Вот оно, Кудрявино!
Саше еще ни разу не случалось бывать в лесных починках; подъезжая, он с любопытством вглядывался — должна же на чем-то лежать печать глухомани. Но дорога вела к привычной деревенской околице: осевшая за зиму изгородь, такие же осевшие ворота из жердей, распахнутые гостеприимно настежь, бревенчатые избы…
— Да у них электричество! — удивленно воскликнул Саша.
В глубь просторной деревенской улицы уходили желтые столбы.
— Федосий Мургин локомобиль завез, — пояснил Игнат. — Одну зиму свет был, потом случилась какая-то неисправность. Федосий к тому времени махнул рукой на кудрявинцев, кудрявинцы — на его локомобиль… Столбы-то стоят, да и в избах лампочки есть…
Сам Игнат, хоть и не раз бывал здесь, сейчас глядел вокруг быстро бегающими глазами, на переносье легла напряженная морщинка, — как-никак все, что ни увидит, станет его хозяйством.
— Эх-хе-хе! — вздохнул он. — Косилка-то где перезимовала.
Председатель «Светлого пути» Федосий Мургин еще не появлялся, по его ждали с минуты на минуту.
В бригадной избе, до укрупнения служившей колхозной конторой, приезжих встретил бригадир Савватий Копачев, более известный по прозвищу «Саввушка Вязунчик», маленький человечек с большой лобастой головой, сморщенным бритым лицом, прыгающими вверх-вниз бровями и живыми, беспокойными глазками. Павел не был знаком с ним, Игнату же частенько приходилось видеть Саввушку у себя. Не скрывая своего удивления, Игнат прямо спросил:
— Как же так случилось? Ты — и бригадир.
— Сам не пойму, — безунывным, по-детски тонким голоском ответил Саввушка. — Народ за меня горой стоит.
Игнат с сомнением покачал головой:
— Ишь ты… деятель.
Саввушка Вязунчик, от рождения слабосильный, не приспособленный к крестьянской работе, сам сознающий это, был одним из тех, кого обычно называют в деревне «зряшный мужик». Не только в колхозе, но и к своему хозяйству он не прикладывал рук. Приходила пора пахать усадьбу, садить картошку, а Саввушка ходит от соседа к соседу, просит сначала табачку на цигарку, затем…
— Дощечек у тебя, брат ты мой, не завалялось ли?.. На что? Да, чай, весна. Скворцы, слышь, прилетели, скворечник надо приладить.
И он целый день самозабвенно сколачивал скворечник, не обращая внимания на то, что старуха с высоты крыльца честит его на всю деревню:
— Полюбуйтесь, люди добрые! В доме луковицы завалящей не отыщешь! Век вековечный мучаюсь с непутевым!.. Господи! Когда ты его приберешь?
У Саввушки был сын, бравый офицер, красавец парень, изредка приезжавший на побывку домой, сводивший с ума девчат щегольским, с золотом нашивок, мундиром. Саввушка им гордился, многозначительно напоминал встречным и поперечным: «мое семя». На деньги, высылаемые сыном, и кормился он со старухой.
Никто в округе не знал больше Саввушки смешных побасенок и страшных историй. В любом месте, где только сходились два-три человека, Саввушка начинал своим детским голоском рассказ.
И сейчас, ожидая приезда Федосия Мургина, он начал не без хвастовства:
— Нелегко, видать, к нам добраться. Вы, Павел Сергеевич, примечаю, машинку-то свою оставили, на простых дровнях к нам подкатили. Лесные мы люди… Не слыхали, какое лихо сюда загнало? Нет. То-то и оно. Мы, кудрявинцы, одного с тобой корня, Игнат Егорыч. Ты родом из Останова, мы — тоже. Лет так сто пятьдесят назад в Останове жила Фекла, по уличному-то — «Лешачиха». А почему Лешачиха — разговор особый. Здоровая была, страсть. Мужички-то наши на медведя один на один хаживали, она и их кулаком сшибала. Муженек у нее был хлипкий. Она его понуждала бабьи работы делать: корову доить, тесто ставить, бельишко там простирать, а сама пахала, косила, новины жгла. Характеру угрюмого, живет не по-людски, все навыворот. Ну, народ-то по темноте своей коситься стал: не иначе ведьма, не иначе лешачиха, пакости ей, ребята! И пакостили: на клин коров напустят, бычку там ногу перешибут, дошло дело — колом лошаденку ейную пришибли. Тут Фекла-то и не стерпела, дозналась кто… А пришиб лошаденку парень один, по селу первый ухарь… Так что вы, братцы мои, думаете! Средь бела дня Фекла этого парня смяла, голову его промеж колен вставила да при всем народе, при девках-то штаны спустила, по голому заду и всыпала… Извелся потом от этого парень-то. А Фекла покидала на телегу свое добришко, на добришко мужика посадила, сама в оглобли впряглась, да и в лес… Вслед плевались: «Лешачихе — лешачье место, живи где хошь, сатанинское семя». Выбрала Фекла местечко поглуше да поприглядней, с одного боку соснячок, с другого — березки, одна одной кудрявее…