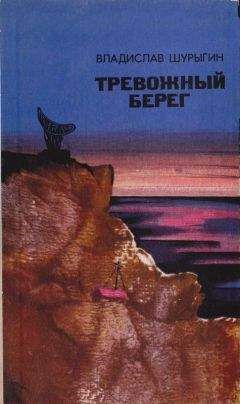…Андрей так задумался, что не сразу понял, к кому относились слова девушки-телефонистки:
— Оренбург! Товарищ военный! Говорите с Оренбургом.
Андрей словно очнулся. Долгий телефонный звонок. Девушка показывает на переговорную кабину.
— Спасибо. Иду! — Андрей вскочил, торопливо направился в кабину.
— Алло, алло! Говорите с Оренбургом!
— Говорю!
На дальнем конце провода — голос Люды, искаженный шорохами линий связи, ослабленный тысячами километров.
— Алло!
— Люда! Здравствуй, это я!
— Здравствуй! Ой, как хорошо, что ты позвонил, Андрюша! Тебя так плохо слышно… Вот сейчас лучше. Я собиралась тебе позвонить. Что-то не дозвонилась. Видно, медвежий угол.
— Дельфиний.
— Серьезно, дельфины есть?
— О! Еще сколько! Особенно по утрам.
— Андрюша, ну как ты живешь?
— Нормально, а ты?
— У меня скоро каникулы. Мы надумали ехать на юг, в твои края! Что? Вшестером. Двое мальчишек и девчонки. Андрюша, хочешь, я к тебе в гости заеду?
— Ох, хвастунишка! Так прямо и заедешь?
— Почему ты смеешься? Я серьезно.
— Ну, если серьезно, то буду ждать тебя. И когда это будет?
— Недели через три. Я тебе коржиков твоих любимых привезу. Андрюша! А что у тебя с институтом? Разрешили?
— Да, понимаешь, какое дело… Разрешить-то разрешили… Я тебе напишу, на днях все решится.
— Ты неисправим. Ведь уже июнь. Слышишь, чудак, и-юнь! А с первого августа вступительные. Нет, ты спеши. На этой неделе все сделай, Андрей! А может, ты опять о другом думаешь?
— Думаю. Но и здесь, знаешь, все неясно…
— Глупый мальчишка… Ну зачем тебе гнаться за двумя зайцами? Какое может быть сравнение? Вот я приеду, и мы поговорим.
…Невидимая телефонистка сказала, что время истекает, а на просьбу Андрея добавить еще три минуты ответила: «Не могу. Линия срочно нужна».
Последние секунды… Обычные и такие обязательные слова: «Ну, пиши!» — «И ты пиши!» — «Ну, всего доброго!» — «До встречи!».
Окончен разговор. Андрей выходит на улицу. Солнце пошло на снижение, повернуло к морю, но светит еще жарко.
Когда теперь автобус до Прибрежного? А может, пройтись пешочком по тропке вдоль моря? И решил — идти.
Все летело в тартарары… Бакланов трижды менял тактику, но Юля, кажется, обиделась всерьез. Сначала Филипп пытался бодренько отшутиться:
— Ну полно дуться. Я же не из хулиганских побуждений. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я…
Юля коротко бросила:
— Зачем вы мне это говорите?
И тогда он попытался перевести разговор на другую тему. Сказал, что пограничник Карабузов напечатал стихотворение в «Молодой гвардии».
— Надо же — человек шут знает где служит, а его в Москве толстенный журнал печатает! Эх, взять бы и послать туда свои стихи? А вдруг? Как думаешь, Юля?
Но Юля, обычно внимательный и доброжелательный критик его литературных опытов, посмотрела на него своими большущими карими глазами (глазами «цвета крепкого чая», как определил их Филипп) и вздохнула. Сейчас этот вздох означал: «Господи, до чего же навязчивый субъект!»
И тогда Филипп сказал:
— Между прочим, вот только что толковал с рыбаками, с батькой твоим. А он у тебя, оказывается, герой. Чуть ли не море в декабре переплыл. Почему же ты молчала?
Юля ничего не ответила, заполняла какой-то бланк или карточку.
— Из Морского два мотобота пригнали. Позарез нужны люди, понимающие в морском деле. Так что я себе местечко забил. Виноват, занял. Ты ведь не любишь такие словечки?
Она не ответила. Филипп оглянулся и вздрогнул: в библиотеку вошел сержант.
— Здравствуйте! — сказал Русов.
Ответила ему Юля, а Бакланов, после неловкой паузы, натянуто бодро сказал, облокотившись на барьерчик:
— А я сегодня раньше вас… Вот, выбираю самую лучшую книгу. Ту, которая в единственном экземпляре.
Чувство такта не позволяло Русову сейчас же здесь, в присутствии этой девушки, сказать то, что Бакланов заслужил. Андрей улыбнулся:
— Шустрый вы читатель, Филипп Иванович.
Филипп усмехнулся. Но усмешка недобрая, в глазах острый блеск.
— «Шустрый». А как же иначе, двадцатый век.
Русов подошел к библиотечной стойке, вздохнул. Сказал Юле:
— Он, надеюсь, успел выбрать свою книгу? А как с тем томиком, что я в прошлый раз просил?
— Да, уже принесли, — улыбнулась Юля.
Улыбка Юли показалась Бакланову не совсем обычной. В груди стало жарко. Хотелось сказать что-то резкое. Сказал бы, да не было явного повода.
Юля ушла за книжные стеллажи. Бакланова раздражал короткий ежик волос стоящего рядом Андрея. Русов взглянул на него. Бакланов не выдержал его взгляда и отвел глаза. Подумал: «Что хорошего, если человек научился пялить глаза? Может, это и есть наивысшее нахальство? А человек с нежной, легко ранимой душой, он глаза не пялит».
Юля принесла книгу. Филипп успел прочесть на белой закладке — «Русову А.».
«Ишь, барон… Книжки ему специально. Интересно,
будешь ли ты читать эти учебники да книги. Целую тумбочку натолкал», — зло подумал Бакланов.
— Большое спасибо. Где мне расписаться?
Русов достал авторучку и поставил на карточке аккуратную роспись. Вопросительно посмотрел на Бакланова. Это Филипп прекрасно понял. Он не знал, как поступить. Может, выдержать марку до конца? Уйти чуть позже его? Все равно: сто бед — один ответ. Пожалуй, не стоит. Надо идти с ним.
— До свидания, — сказал Русов Юле.
— До свидания, — ответила она.
— Я тоже сейчас иду.
Этой фразой Бакланов убил двух зайцев: подчеркнул свою независимость и попросил, чтобы Русов подождал.
Сержант надел панаму, и на губах его вспыхнула насмешливая улыбка.
…Сгущались сумерки, но Бакланов сразу заметил — сержант ждал его у дальних тополей.
Когда Филипп подошел, Русов опросил:
— Что скажете, Бакланов?
Тот предпочел отделаться шуткой:
— Тесен, однако, мир…
— Давно в совхозе?
Бакланов шел руки в брюки. Достал сигарету, закурил.
— Да, как сказать… с часок будет.
Посмотрел на сержанта. Лицо у Русова хмурое, не предвещающее ничего доброго. Сержант спросил:
— А может быть, с половины дня?
— Может быть, и с половины. Счастливые часов не наблюдают.
Шли молча, ступали в мягкую дорожную пыль. Ботинки Бакланова стали серыми. У Русова тоже. На окраине села выбили обувь о кустарник, вышли в степь. Русов сказал:
— Однажды ты намекал насчет жизни «по велению мятежной души». Это и есть та самая жизнь? Душа в самоволку захотела?
Бакланов натянуто улыбнулся, затянулся папиросным дымом:
— К чему такие слова? Можно подумать, что без меня движок не запустят. Подумаешь, преступление — сходил на часок в библиотеку! Работы-то все равно нет. Да и Славиков просил взять ему что-нибудь про фантастику…
Русов посмотрел на засунутые в карманы руки дизелиста:
— Значит, Славиков благословил? Снарядил как посыльного?
— Да нет. Это я так, заодно.
— А где же твои книги?
— В библиотеке. — Бакланов, глядя под ноги, улыбался.
«Ну и нахал ты, братец!» — с трудом сдерживаясь, подумал Русов.
— В библиотеке! Не нужно врать, Бакланов. Кажется, я утром ясно сказал: всем быть на точке и никуда не отлучаться. Я тебя имел в виду. Неужели не понял? Ведь надоели твои «гастроли». Я слышал кое-что про них и раньше. Да вот…
Бакланов вздохнул. Шел, смотрел на море. Споткнулся о кочку, зло выплюнул сигарету.
— Мне тоже надоело. Что ты мне нотацию читаешь? Я ведь тоже человек. Такой же, как и ты, и служу не меньше твоего…
«Кажется, разозлился, — подумал Русов. — Ну что ж, пусть злится, пусть выскажется». Но Бакланов не стал высказываться. Примирительно сказал:
— Что нам, собственно, ругаться? Ладно, без разрешения ходить больше не буду. Только ты пойми меня правильно. Мне ее вот как надо было видеть. — Филипп поднес ребро ладони к горлу, улыбнулся… — Эх, Андрей, Андрей! Ведь должны же мы понять друг друга, как «старик старика».
— Все? — резко спросил Русов. — Так вот что…
— Ну, слушаю.
Бакланов заложил руки за спину, пошел тише.
— Нравится тебе это или не нравится, — продолжал Русов, — но обязан ты мне подчиняться. Знаешь, во время войны…
Бакланов не выдержал:
— Слушай, сержант! Зачем такие слова? Ясно, что я буду на войне совсем другим человеком.
— Пусть мои слова ты считаешь нотацией, — перебил его сержант, — по не должно быть разницы между дисциплиной мирного времени и военного. Если бы такая разница существовала, то грош нам цена. Не нужны бы мы были, понимаешь?
Русов взглянул па Бакланова. Тот пожал плечами: как знать. Русов снова заговорил. Иногда он умолкал. Молчал и Бакланов, и было слышно, как шуршала о ботинки жесткая трава.
О чем у них был разговор? А вот о чем.