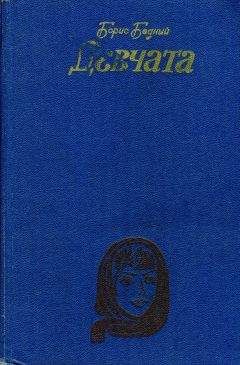Ему открыла хозяйка. И то, что открыла не Мария, еще больше усилило обиду Роднева за самого себя. Он сказал сердито:
— Мне Марию нужно видеть.
Он ждал, что хозяйка скажет: «Нету дома», и он спокойно пойдет обратно. Но та засуетилась:
— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Роднев. Дома, дома.
За ее суетливой любезностью чувствовалось и любопытство, и радостное ожидание чего-то интересного, и боязнь, что вот-вот это «интересное» может сорваться.
Мария, верно, только что мыла голову, ее тяжелые косы, уложенные вокруг головы, казались темнее обычного. Чистое розовое лицо, полная свежая шея, пестренькое ситцевое платьице — опять она новая, не такая, как раньше.
— Пришел? — спросила дрогнувшим голосом.
— Может, не во-время? Помешал?
Она плотнее прикрыла дверь и, взяв за локоть, подвела его к столу.
— Садись. — И сама села.
С минуту глядела она ему в лицо, и Роднев не выдержал этого тяжелого взгляда, он пошевелился, смущенно улыбнулся и признался в том, что и без того было ясно:
— Вот, пришел.
— А я ждала… Я знала — придешь, должен прийти.
Анфиса Кузьминична, хозяйка дома, где квартировала Мария, была из тех старушек, которые при встрече вместо слова «здравствуйте» говорят: «А вы слыхали?» Она весной первая сообщила, что Паникратов-де встречается с квартиранткой. Но эта новость не вызвала большого удивления — он вдовец, она вдовушка, он мужчина хоть куда, и она не уступит, сама судьба — быть свадьбе. Но то, что Мария стала встречаться не с Панкратовым, а с другим, да еще с близким Паникратову человеком, — вот это «новость»!
В Кузовках, где добрая половина жителей между собой кумовья или сваты, такие вести разносились быстро. Однако «новость» Анфисы Кузьминичны не застала Федора Паникратова. Он выехал по вызову в обком партии.
Когда в коридоре райкома слышалась тяжелая поступь Паникратова, машинистки в общем отделе начинали зябко кутаться в платки. Секретарь райкома все время был мрачен и раздражителен. С Родневым у него за день до отъезда вышла короткая стычка.
— Федор Алексеевич, будет семинар секретарей первичных организаций, хорошо бы на нем выступили от разинцев и от чапаевцев.
— Это что? Самореклама?
— Нет! — резко ответил Роднев: оскорбить его сильнее Паникратов не мог. — Забота о будущем урожае!
А Паникратову было не до будущего. Какое же будущее, когда сейчас район переживает несчастье! Минует все, забудется, тогда можно подумать и о будущем.
Но вот Паникратов уехал, за него остался Сочнев, а с ним Родневу было легко сговориться.
По дороге, припорошенной сухим снежком, Роднев приехал в Лобовище.
Груздева в правлении не было. Там сидел Спевкин с Алексеем Трубецким, гостем в Лобовище нечастым.
— Вот учу уму-разуму. Боюсь, как бы разинцы не промахнулись с лесозаготовками. Тут председательское соображение нужно. Приехал рассказать, пока не поздно, — здороваясь, пояснил Трубецкой.
— Что за «председательское соображение»? — удивился Роднев. Он знал — колхозы должны выделить на работу в соседний леспромхоз определенное количество людей и лошадей, их нужно назначить, только и всего; какие еще «председательские соображения»?
— А соображения такие, — принялся объяснять Трубецкой, — чтоб государству была польза и колхозу выигрыш, словом, и матка не сохла и телята сыты. Как делали здесь раньше? Приходила им разнарядка, выделяли работников из тех, кто поплоше. Хорошие, мол, и в колхозе пригодятся. И, глядишь, съездили в лес — оборвались, лошадей заморили, а заработать не заработали. Колхозу от заморенных лошадей убыток, работники недовольны, да и государству, само собой, от аховых работников польза аховая. Так ведь было, Дмитрий?
Спевкин с готовностью тряхнул кудрями: «Так, так».
— А мы выделяем лучших работников. Не скупимся, потому что зимой в колхозе работы не много. Даем им лучших лошадей и говорим: «Поезжайте, друзья, не срамите колхоз, больше зарабатывайте». Посылаем не на квартал, а на всю зиму, на сезон. Ребята крепкие, за месяц они всю зимнюю норму выполнят, глядишь, там уже прогрессивные идут; за один кубометр платят как за полтора или за два даже. К концу зимы наши ребята так зарабатывают, что не каждый инженер такой оклад получает. Петр Корпачев, например, в прошлую зиму пятнадцать тысяч привез, а Рогулин — восемнадцать. О Рогулине по лесу слава идет.
— Восемнадцать тысяч! — подавленно протянул Спевкин.
— Да за лошадь, на которой он работал, колхозу перечислили восемнадцать тысяч. А мы десять лошадей посылали, чуть не сто тысяч чистеньких.
— Ах ты, мать честна! — шлепнул по колену Спевкин. — Сто тысяч, как с куста!
— Не с куста, а с леса. Видишь, и колхозники подзаработали, и колхоз в выгоде, и государство не в накладе. Сколько эшелонов леса наши ребята нарубили и вывезли? Разве это не святое дело? А?
— Но лошадей-то измотали, конечно? Вам хорошо — конюшни богатые, а у нас отправь крепких лошадей, весной Лазаря запоем, посевную проводить не на чем.
— А мы в лес вместе с рабочими контролера над лошадьми посылаем, старшего конюха Гаврилова. Тот лошадей замучить не даст.
— Ага. Мы Юрку Левашова пошлем.
У Роднева было в колхозе много дел, и он перебил:
— Извини, Алексей Семенович… У меня давно к Дмитрию вопрос есть.
Спевкин насторожился.
— Ты еще долго думаешь, переросток, в комсомоле сидеть? Пора бы подавать заявление в партию.
У Спевкина от смущения рука сама собой полезла в волосы.
— Я давно думаю, Василий Матвеевич. Побаиваюсь. Помню, как мы с тобой встретились.
— Что было, то прошло.
— Я могу дать рекомендацию, — внушительно произнес Трубецкой. — Человек стоящий, что ни скажи — на лету хватает.
Роднев ушел.
Переговорив обо всем и проводив Трубецкого, Спевкин направился к Груздеву. Тот сидел дома и, почесывая под расстегнутым воротом рубахи волосатую грудь, разбирал на столе какие-то бумаги. Недавно Груздеву пришлось завести очки. Спевкин сам выбрал ему в городской аптеке самые большие, в черной оправе. «Не усы бы, вид у тебя, Степа, под академика, — посмеивался Спевкин. — Усы-то ефрейторские, сбрил бы к ляду, на что они, когда очки есть».
Однако, когда заставал Степана за книгами, в очках, насупленного, невольно проникался уважением.
— Был у тебя Роднев?
— Был. Только что уехал.
— Он говорил тебе?
Груздев печально вздохнул, освободился от очков, и с его лица как бы смыло всю строгость.
— Говорил, Митя, говорил… У меня — голова кругом. Ну-ка, подумай — с докладом выступить!
— С каким докладом?
— Как каким? Перед всеми секретарями парторганизаций района придется мне рассказывать о нашем почине. А какой я, прости господи, докладчик!
— Ну и ну! Точно — задачка! Только я тебя о другом спрашиваю: не говорил тебе Василий, что мне пора оформляться в кандидаты? Рекомендацию хочу попросить у тебя.
Лицо Груздева сразу же отвердело.
— М-да… Не дам я, пожалуй, тебе рекомендацию. Обожду.
От неожиданности у Спевкина пересохло в горле.
— Это как?
— Пока Роднев жил у нас, ты было схватился читать, потом, смотрю, бросил. Лежат книги у тебя в столе среди рассыпанной махорки, мешают только.
— Сам знаешь, в колхозе дел по уши, не успеваю везде.
— А у меня не «по уши»? Чай, тоже не без дела сижу — и МТФ и парторганизация на мне, — а креплюсь. На гулянки ходить, отплясывать небось время находишь?
Спевкин рассердился.
— Роднев дает рекомендацию, Трубецкой дает, а ты — «не дам». И не надо! В райком комсомола пойду или к Чураеву, дадут, не откажут!
— А через кого вступать будешь? Через нас, мы же будем принимать. А я, брат, все на собрании выложу, как есть.
В знак того, что разговор окончен, Груздев снова надел очки. Надевал он их по-особенному, подаваясь головой на очки, не седловину садил на нос, а нос подводил под седловину. Строгий блеск стекол на обветренной физиономии Груздева охладил Спевкина, он сразу понял: и ругаться и просить бесполезно.
Лишь на улице к нему вернулась способность удивляться: «Вот тебе и Степа Груздев! Раньше как Роднев, так и он, а теперь гляди-ка! Поспорь с ним. Не дам — шабаш! Пожалуй, и в самом деле в районе выступит. И когда он успел так перемениться?..»
Паникратов вернулся из области поздно вечером. Дети спали. Старуха мать, привыкшая встречать сына из всех командировок, спросила:
— А Наташке валеночки купил?
— Нет, не купил, — ответил невесело Паникратов. — Некогда было.
— Некогда! До сих пор девчонка в ботиках ходит. — И старуха, привычно собирая ужин, заворчала. — Отцы! Нарожают детей, а заботки нисколько тебе нет, нисколько! Говорила ведь, говорила — женился бы…