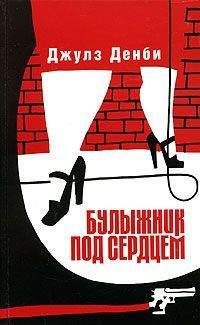— И ты скрывал? — в шутливой грозности возмутился Взоров.
— Да разве от вас скроешь! — грустно улыбнулся Ветлугин.
— Ну пошли же быстрее, а то и времени мало, — заволновался Взоров.
III
Самым первым паровозам давали имена, и потому отец и сын Стефенсоны назвали свою самую удачливую модель «Ро́кет» — «Ракета». В Гайд-парке напротив мемориала принцу Альберту, мужу знаменитой английской королевы Виктории, проложили рельсы, огородили их барьером, на который удобно опираться всем любопытствующим, и поставили точную копию «Рокета» — с прицепной открытой платформой, оборудованной лавками. Этот удивительный паровозик, очень неприглядный — железная печка с высокой трубой на одном большом колесе, вернее на двух, то есть с двух сторон, которые крутили рычаги, идущие от поршней, крепленных сбоку, с тележкой-тендером на малых колесах — вот и весь м а г и с т р а л ь н ы й паровоз тысяча восемьсот двадцать девятого года, созданный Джорджем и Робертом Стефенсонами. Но т я г а л он по тем временам необыкновенные тяжести — и без всякой устали! На расстояние в тридцать миль от перевалочного порта в Ливерпуле до индустриального Манчестера; конечно же, и пассажирские составы, причем со скоростью до сорока миль в час, что считалось тогда невиданным.
Взоров жадно взирал на паровозного прадеда и восклицал:
— Ну надо же! Никогда не мечтал увидеть создание Стефенсонов! Но смотри — все уже есть! Все идеи! Дальше шло лишь совершенствование, обреталась форма. Как эмбрион, в котором все уже есть! Удивительно!..
А Ветлугин думал о том, что они с Федором Андреевичем совсем не касаются борьбы за мир, предстоящего митинга; и постигал какую-то иную мудрость, присущую Взорову, — вроде бы отвлечься от цели, от главного, будто в боязни перегореть, рассредоточиться, однако в сущности готовясь к этому самому важному делу, которое непременно настанет; а следовательно, нужно создать настроение, вдохновиться, чтобы в решающий момент чувствовать себя свободно и оптимистично. Ветлугин понимал, что во Взорове это вырабатывалось годами, опытом жизни, а ныне стало привычкой. Эта способность, это умение поражали Ветлугина, и он думал, что такое следовало бы воспринять и самому быть таким.
А Взоров впился в огромный щит, на котором готически-красивым шрифтом расписывалась история прихода в мир «железного коня». И восклицал:
— Нет, ты взгляни! Как же непросто все было, оказывается! Как умно написано!..
Написано же было о том, что в результате победоносных наполеоновских войн Англия оказалась под угрозой вторжения, в стране возникли разные трудности, в частности, транспортная — не хватало лошадей, особенно для промышленных перевозок, прежде всего угля. На угольных разработках в графстве Норткамберленд рядовой механик Джордж Стефенсон в тысяча восемьсот тринадцатом году создал самодвижущуюся паровую машину, названную им «Блюхер», в честь прусского маршала, спасшего английскую армию Веллингтона от разгрома при Ватерлоо. Но после победы над Наполеоном с лошадиным поголовьем опять все стало в порядке, и о паровозах начали забывать.
К двадцатым годам прошлого века, пожалуй, Джордж Стефенсон, писалось на щите, был единственным человеком в мире, кто продолжал совершенствовать паровой двигатель. В те годы всеобщего благополучия и спокойствия только железные рельсы не вызывали сомнения. Спорили в основном о том, должны ли лошади таскать составы по рельсам или следует двигать составы по рельсам с помощью канатов, то есть настаивали на распространении канатных дорог. К паровым локомотивам относились скептически.
Однако в графстве Норткамберленд нашелся человек, богатый, естественно, который сумел заглянуть в будущее, — Эдвард Пи́эс. Он нанял Джорджа Стефенсона и его повзрослевшего сына Роберта и поручил им построить железную дорогу с паровой тягой протяженностью в пятнадцать миль. Так, в тысяча восемьсот двадцать пятом году появилась первая в мире железная дорога.
Опомнились, писалось далее на щите, богатые купцы Ливерпуля и фабриканты Манчестера. Водный канал, главная грузовая артерия между этими двумя центрами, в результате резкого роста товарооборота стал настолько медленным, что сырье из-за океана, из Америки, доставлялось в Ливерпуль быстрее, чем из Ливерпуля в Манчестер… Вот поэтому-то и назвали Стефенсоны свой паровоз «Ракетой»!..
Взоров говорил:
— Смотри, а ведь опять же впереди экономические проблемы. Экономика и политика всегда двигали прогресс. От них, от основных областей человеческой деятельности, зависит техническое развитие. Разве не так? Вот же наглядный пример!..
Из полосатой будки вышел человек, одетый по моде двадцатых годов прошлого века, — в жилетке, фраке, белых панталонах и высоком цилиндре на голове.
— Как денди лондонский одет! — воскликнул Взоров. — Ай да Пушкин! Смотри!..
Денди громко, галантно пригласил всех желающих прокатиться на стефенсоновской «Ракете». Взоров, как мальчишка, мгновенно увлек за собой Ветлугина. Они уселись на первой лавке. Машинист-«денди» несколько раз свистнул, поднял давление в котле — паровоз дыхнул несколькими кольцами дыма, прошипел спускаемыми парами и медленно двинулся — чух, чух… На лице Взорова сияла счастливейшая улыбка.
— Чему вы радуетесь, Федор Андреевич?
— Хорошо, Виктор. Хорошо! Как хорошо бывает! — только и ответил тот.
Когда они возвращались в отель, Взоров вслух размышлял:
— Странно, однако, получается: они назвали этот паровозик ракетой. А какие ныне ракеты?.. Удивителен человек… Правда ведь?
— А мне хотелось бы вернуться к теме о степени родства, — упрямо заметил Ветлугин.
— Эко тебя зацепило! Ну так и что?
— А то, Федор Андреевич, что мы прикоснулись к правремени. К эпохе, когда жил Пушкин, декабристы. Но даже не об этом моя мысль. Родство-то должно быть еще и историческим. Я вот вдруг ощутил единение с той эпохой. Будто бы время исчезло…
— Я понял тебя, — перебил Взоров. — Мысль интересная. Знаешь ли, я тоже это ощутил. А подумал вот о чем: ты упоминал о шотландцах. Здесь, на Британских островах, можно считать, живут три народа — собственно англичане, валлийцы и шотландцы. И хотя они давным-давно пребывают в неразделенности, однако национальные особенности сохраняются, даже можно утверждать — незыблемы, несмотря на классовые и политические различия и расслоения. Любопытно, не правда ли?
— Безусловно, — подтвердил Ветлугин.
— А что же мы об этом не помним? — вопрошал Взоров. — Понимаешь ли, мне ведь много приходится ездить по стране. Что порой удивляет? Да что там — поражает! Рязанцы остаются рязанцами, пензяки — пензяками, а тульские — тульскими, несмотря на все мощные перемещения. Более того, возьми Московскую область: коломенские отличаются от серпуховских, и уж совсем от можайских или дмитровских. А мы упорно не хотим об этом знать. Ну, в общем, это ныне не главное, — как всегда, Взоров отступил, можно сказать, зачеркнул тему.
Но Ветлугин не намеревался отступать.
— Значит, все мы называем себя русскими, — сказал он, — а в этом понятии столько внутреннего противоречия, столько разъединенности. Вспомним псковских, новгородских, архангельских. Это — север. Или юг — казаки, малороссы. Госпожа Провинция настолько сильна и настолько неистребима…
— Она и спасительна, — вставил Взоров.
— Согласен. Но вот здесь провинциальности в нашем понимании не обнаружишь. А тем более землячеств. Это уже пройденный для них этап. Причем давно.
— Ты хочешь сказать, что в генах у них не обнаружишь удельных распрей, идущих из давних времен?
— Вероятно. Но я хочу подчеркнуть другое — сказать о городах. Скажем, в Лондоне все помнят, из какого они города родом. Города, как вы знаете, здесь очень отличаются. В той же Шотландии, в Уэльсе, не говоря о самой Англии. Но какими бы ни были города, как бы они не различались, обязательно, непременно, безусловно, в первую очередь они — шотландские, английские, уэльские. То есть: национальное вроде бы исчезло, вроде бы эфемерно, по крайней мере, для государства — все подданные королевы являются просто британскими гражданами, как бы даже безнациональными. Но вот именно это и совершенно не так! Все они шотландцы, валлийцы, англичане или ирландцы, если и о них вспомнить.
— Если я тебя правильно понял, — задумчиво произнес Взоров, — национальное все равно сохраняется, несмотря на экономические и социальные изменения. Даже если человечество придет к единению, допустим, в следующем веке? Или в двадцать втором?
— Мне так думается.
— Как здесь, в Британии?
— Возможно.
— Ладно, Виктор, хватит об этом, — твердо сказал Взоров, с той твердостью, которая требует подчинения.